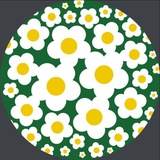This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Less is More — одна из лучших миланских инсталляций, сделана дизайнером Мартеном Баасом для G-Star Raw. В центре внимания — материал из переработанного денима. Баас построил из него самолет — намек на бизнесменов и политиков, которые слетаются на всевозможные форумы по спасению планеты на частных джетах.
Самолет установили в церкви, это доставляло происходящему веселого абсурда. Дизайнер присутствовал на месте и собственноручно печатал сувенирные майки. Правда, когда мы там оказались, у него был перерыв, так что маек нам не досталось, но удовольствие получили.
#милан2023
Самолет установили в церкви, это доставляло происходящему веселого абсурда. Дизайнер присутствовал на месте и собственноручно печатал сувенирные майки. Правда, когда мы там оказались, у него был перерыв, так что маек нам не досталось, но удовольствие получили.
#милан2023
В “ГЭС-2” новая выставочная программа — и это повод пересмотреть планы на грядущие длинные выходные и включить поход туда в свой список. В Доме культуры открыты сразу четыре экспозиции, а сопровождает их насыщенная публичная программа (расписание можно посмотреть здесь).
“Краткая история отсутствия”
Экспозиция состоит из работ, у которых нет одного из главных признаков произведения искусства. Какого именно, можно понять из наименований разделов: “Без названия”, “Без автора” и “Без зрителя”. Под эти критерии подобраны произведения самых разных художественных школ и течений: от советского авангарда до современного генеративного искусства.
“Себе на уме”
Проект из серии “ГЭС-2: Города”, и объединяющий фактор здесь — авторы из одного города. В данном случае — из Костромы. Все работы в разном стиле и разных эпох, сценография современная и нет никакого нудного краеведческого подтекста. Работы предлагается смотреть под аудиогиды, причем “маршрутов” сразу пять: они созданы костромским драматургом Алиной Журиной по мотивам текстов местных жителей и интервью с ними. Очень увлекательное занятие.
“Облачное хранение”
Это выставка-диалог между художниками двух разных поколений, которые рассуждают об архивах, их роли в жизни общества и способах составления хронологии событий. С одной стороны — Аркадий Насонов, руководитель объединения 1990-х “Облачная комиссия”, а с другой — молодые художники Полина Абина и Алексей Себякин как представители диджитал-мира.
“Чародеи”
На небольшой части выставочного пространства собраны примеры того, как молодые российские художники переосмысливают темный фольклор. Тут можно увидеть приятные глазу фигурки ритуальных божков, вариации на тему славянских, уральских и скандинавских легенд и вызывающую мурашки на коже серию из нескольких десятков акварельных портретов одного ребенка, называется она “Девочка, с которой ничего не случится”.
“Краткая история отсутствия”
Экспозиция состоит из работ, у которых нет одного из главных признаков произведения искусства. Какого именно, можно понять из наименований разделов: “Без названия”, “Без автора” и “Без зрителя”. Под эти критерии подобраны произведения самых разных художественных школ и течений: от советского авангарда до современного генеративного искусства.
“Себе на уме”
Проект из серии “ГЭС-2: Города”, и объединяющий фактор здесь — авторы из одного города. В данном случае — из Костромы. Все работы в разном стиле и разных эпох, сценография современная и нет никакого нудного краеведческого подтекста. Работы предлагается смотреть под аудиогиды, причем “маршрутов” сразу пять: они созданы костромским драматургом Алиной Журиной по мотивам текстов местных жителей и интервью с ними. Очень увлекательное занятие.
“Облачное хранение”
Это выставка-диалог между художниками двух разных поколений, которые рассуждают об архивах, их роли в жизни общества и способах составления хронологии событий. С одной стороны — Аркадий Насонов, руководитель объединения 1990-х “Облачная комиссия”, а с другой — молодые художники Полина Абина и Алексей Себякин как представители диджитал-мира.
“Чародеи”
На небольшой части выставочного пространства собраны примеры того, как молодые российские художники переосмысливают темный фольклор. Тут можно увидеть приятные глазу фигурки ритуальных божков, вариации на тему славянских, уральских и скандинавских легенд и вызывающую мурашки на коже серию из нескольких десятков акварельных портретов одного ребенка, называется она “Девочка, с которой ничего не случится”.
В начале апреля я была на «Российских днях дизайна» в Уфе и там наконец-то познакомилась с основательницей проекта «Трын*Трава» Элиной Туктамишевой. Пользуясь случаем, спросила, как они отбирают работы на свою выставку. Среди экспонатов, виденных мной в прошлом году, были вещи с явным русским кодом, но не все. Загадкой, например, осталось участие в выставке керамиста Александра Сафроненкова — его фарфоровые объекты напоминают каких-то морских жителей и слабо ассоциируются с чем-то целенаправленно русским.
Оказалось, что русский код — он как красота, в глазах смотрящего. Там, где мне мерещатся моллюски, организаторы выставки увидели головки репейника. Тут главное, что сам автор оставляет простор для трактовок.
Это я все к тому рассказываю, что «Трын*Трава» сейчас объявила сбор заявок от авторов на участие в новой выставке. Есть смысл попробовать, даже если вы не вдохновляетесь в своем творчестве лаптями и Палехом. Достаточно того, что вы работаете в России. Русский код — штука хитрая, он себе дорогу так или иначе, но найдет.
На фотографиях прошлогодняя экспозиция, чтобы было понятней, о чем речь. Сбор заявок вот тут.
Оказалось, что русский код — он как красота, в глазах смотрящего. Там, где мне мерещатся моллюски, организаторы выставки увидели головки репейника. Тут главное, что сам автор оставляет простор для трактовок.
Это я все к тому рассказываю, что «Трын*Трава» сейчас объявила сбор заявок от авторов на участие в новой выставке. Есть смысл попробовать, даже если вы не вдохновляетесь в своем творчестве лаптями и Палехом. Достаточно того, что вы работаете в России. Русский код — штука хитрая, он себе дорогу так или иначе, но найдет.
На фотографиях прошлогодняя экспозиция, чтобы было понятней, о чем речь. Сбор заявок вот тут.
В нью-йоркском колледже The Cooper Union открылась выставка «ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е». Не знаю, лучше она или хуже той экспозиции, что несколько лет назад показывали в Музее Москвы (та была замечательная). Dezeen пишет, что ее основой стали студенческие работы, воссозданные по архивным материалам из коллекции Анны Боковой (она преподает в колледже и курировала выставку) и старым советским журналам.
Меня эта история заинтересовала в контексте легенд об «отмене российской культуры». Судьба выставки в The Cooper Union действительно была непростой. Ее должны были открыть еще год назад и дважды переносили. Писались письма «за» и «против» — они тоже вошли в экспозицию. В конце концов победило стремление к знаниям — руководство Dezeen The Cooper Union сочло опыт ВХУТЕМАСа уникальным, а потому важным.
Еще из недавних историй про «отмену» — вечер в Ла Скала, устроенный Edra во время недели дизайна. Среди номеров был в том числе «Вальс цветов». Полагаю, совсем не оттого, что организаторы решили потрафить сидевшим в зале российским архитекторам и дилерам.
Многое из того, что было придумано и создано в нашей стране, принадлежит не только российской, а общемировой культуре. Наша культура не находится в каком-то особом патриотическом вакууме, а вплетена в историю человечества. И нам самим хорошо бы об этом не забывать.
Меня эта история заинтересовала в контексте легенд об «отмене российской культуры». Судьба выставки в The Cooper Union действительно была непростой. Ее должны были открыть еще год назад и дважды переносили. Писались письма «за» и «против» — они тоже вошли в экспозицию. В конце концов победило стремление к знаниям — руководство Dezeen The Cooper Union сочло опыт ВХУТЕМАСа уникальным, а потому важным.
Еще из недавних историй про «отмену» — вечер в Ла Скала, устроенный Edra во время недели дизайна. Среди номеров был в том числе «Вальс цветов». Полагаю, совсем не оттого, что организаторы решили потрафить сидевшим в зале российским архитекторам и дилерам.
Многое из того, что было придумано и создано в нашей стране, принадлежит не только российской, а общемировой культуре. Наша культура не находится в каком-то особом патриотическом вакууме, а вплетена в историю человечества. И нам самим хорошо бы об этом не забывать.
Начинаем втекать в длинные выходные. По такому случаю у нас сегодня будет один пост — но с продолжением. Это история неслучившейся реконструкции Московского Кремля, ее для нас написал Василий Лужбин — очень его увлекла эта история.
Буду выкладывать ее частями здесь, но можно будет прочесть сразу целиком в Дзене. Начинаем!
Буду выкладывать ее частями здесь, но можно будет прочесть сразу целиком в Дзене. Начинаем!
Дзен | Блогерская платформа
Удивительная история о том, как Московский Кремль чуть не лишился своей стены
Статья автора «Ромашковый сбор» в Дзене ✍: Глядя на то, как в Москве сносят и перестраивают исторические здания, можно решить, что столь фривольное отношение к архитектурному наследию появилось где-то
Глядя на то, как в Москве сносят и перестраивают исторические здания, можно решить, что столь фривольное отношение к архитектурному наследию появилось где-то в советские времена. А начиная с мэрства Лужкова, ситуация стала только хуже, так как результаты таких перестроек часто были просто ужасными.
Но это не так, подобная практика не нова. Москве она была известна еще в XVIII веке. И проект, о котором пойдет речь, касался самого Кремля. Начать стоит с того, что нынешний Кремль в принципе новострой, поскольку до него были белокаменный и деревянный. Новый, пусть и не построенный с нуля Кремль, мог появиться благодаря Екатерине II. Приехав в Москву, она отметила, что город хоть и красив, но находится далеко не в самом лучшем состоянии, включая Кремль. Ко всему прочему, императрица хотела перенести в город некоторые госучреждения, которые было бы очень неплохо обосновать в Кремле, но уже обновленном. Так что желание переделать московскую крепость возникло не из-за монаршьего каприза, а из практических соображений.
Проектом занялся архитектор Василий Баженов. По его задумке, в Кремле должен был появиться самый большой в мире дворец в стиле классицизма. Строительство требовало довольно существенных жертв: сноса некоторых исторических построек на территории Кремля и целой стены, выходящей на набережную, вместе с ее башням. На эту сторону должна была выходить парадная часть дворца, который объединил бы весь Кремль. Екатерине II план понравился.
Но это не так, подобная практика не нова. Москве она была известна еще в XVIII веке. И проект, о котором пойдет речь, касался самого Кремля. Начать стоит с того, что нынешний Кремль в принципе новострой, поскольку до него были белокаменный и деревянный. Новый, пусть и не построенный с нуля Кремль, мог появиться благодаря Екатерине II. Приехав в Москву, она отметила, что город хоть и красив, но находится далеко не в самом лучшем состоянии, включая Кремль. Ко всему прочему, императрица хотела перенести в город некоторые госучреждения, которые было бы очень неплохо обосновать в Кремле, но уже обновленном. Так что желание переделать московскую крепость возникло не из-за монаршьего каприза, а из практических соображений.
Проектом занялся архитектор Василий Баженов. По его задумке, в Кремле должен был появиться самый большой в мире дворец в стиле классицизма. Строительство требовало довольно существенных жертв: сноса некоторых исторических построек на территории Кремля и целой стены, выходящей на набережную, вместе с ее башням. На эту сторону должна была выходить парадная часть дворца, который объединил бы весь Кремль. Екатерине II план понравился.
Набережная получалась немаленькой — 630 метров в длину. Крылья этого четырехэтажного дворца скруглены, а за ними — на территории уже самого Кремля — полукруглая (слева), и овальная (справа) площади; в центре одной из них красовалась бы колонна. Фасад самого дворца мог быть украшен колоннадой, а над карнизом хотели установить скульптуры, герб России и вензель Екатерины II. Набережная тоже должна была преобразиться: на ней планировали сделать террасы, обложенные камнем.
Но куда интереснее дела обстояли уже внутри Кремля. Если посмотреть на чертежи Баженова и сравнить с планировкой площади святого Петра и Собора святого Петра в Риме, то можно найти много общего. Считается, что так Баженов хотел отразить мысль о Москве как о третьем Риме. Архитектор никогда об этом не говорил, но это можно объяснить тем, что отсылки к католическому городу в православном могли помешать реализации проекта. Впрочем, отечественные мотивы в новом Кремле тоже были — в виде трех дорог, которые вели в сразу в три русские столицы: в тогдашнюю столицу Петербург через Никольские ворота, в древнюю столицу Киев через Троицкие ворота и в сторону Сергиева Посада, в столицу веры, через Спасские ворота.
Словом, перед Баженовым задача стояла не из простых: создать геометрически выверенное пространство внутри древнего замка, построенного ситуативно в разные эпохи, и вложить во все это смыслы.
Но куда интереснее дела обстояли уже внутри Кремля. Если посмотреть на чертежи Баженова и сравнить с планировкой площади святого Петра и Собора святого Петра в Риме, то можно найти много общего. Считается, что так Баженов хотел отразить мысль о Москве как о третьем Риме. Архитектор никогда об этом не говорил, но это можно объяснить тем, что отсылки к католическому городу в православном могли помешать реализации проекта. Впрочем, отечественные мотивы в новом Кремле тоже были — в виде трех дорог, которые вели в сразу в три русские столицы: в тогдашнюю столицу Петербург через Никольские ворота, в древнюю столицу Киев через Троицкие ворота и в сторону Сергиева Посада, в столицу веры, через Спасские ворота.
Словом, перед Баженовым задача стояла не из простых: создать геометрически выверенное пространство внутри древнего замка, построенного ситуативно в разные эпохи, и вложить во все это смыслы.