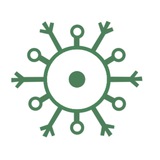This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧬 В свежем подкасте ректор Сколтеха Александр Петрович Кулешов крайне положительно отзывается о диагностике жизнеугрожающих заболеваний по анализу крови:
— Это не приговор, а сигнал, — говорит ректор, — Если Вы попали в красную зону, обратите внимание и поговорите с врачом.
💬 Ключевой смысл высказывания, с которым мы горячо согласны, в следующем:
🔹 анализ крови не даёт готового диагноза, он даёт сигнал — первичную информацию, которая запускает врачебное мышление, дальнейшую диагностику и своевременные действия.
🔹 Такой тест — это не ответ, а вопрос, который нужно задать вовремя.
🩺 Зачем это нужно?
Потому что многие серьёзные заболевания — особенно онкологические — на ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно поэтому ранние сигналы имеют ценность. Они не должны трактоваться как приговор — но они должны быть услышаны.
📌 Пример: анализ CA‑62
Один из таких маркеров, который уже применяется в России — это CA‑62. Он выявляет ранние признаки злокачественных изменений в клетках при раке молочной железы, предстательной железы, лёгких, почек, яичников и кишечника.
🔹 Он не сообщает врачу: «Это рак лёгкого II стадии» — он говорит: «в организме происходят процессы, требующие внимания». И врач начинает искать.
🔬 Главное — это понимание, что ранняя диагностика не равна диагнозу.
Это не "рак у вас", а "есть ли основания углубиться в обследование?".
И именно это понимание мы видим в словах ректора:
▪️ наука поддерживает анализы крови,
▪️ но требует ответственности в интерпретации,
▪️ и реализма в ожиданиях.
🎯 То, что Сколтех поднимает эту тему — важно. То, что в России разрабатываются и применяются тесты на основе анализов крови — не менее важно.
И если врач и пациент начнут относиться к анализу как к интеллектуальному сигналу, а не окончательному приговору — у нас есть шанс по-настоящему изменить подход к диагностике.
И сделать так, чтобы болезнь не ставила точку — а всего лишь запятую.
💰 Далее Александр Петрович сообщает, что анализ крови будет стоить 100-200 рублей. Здесь ректор Сколтеха, пожалуй, излишне оптимистичен.
Реальная розничная стоимость полноценного анализа крови с диагностическим потенциалом — от 5 000 до 10 000 рублей. В эту сумму входит:
🔹 финансирование и организация сертифицированной лаборатории и контрольной лаборатории,
🔹 финансирование и организация разработки и клинических исследований теста,
🔹 работа квалифицированного персонала, который несёт ответственность за безопасную эффективную процедуру,
🔹 лабораторная диагностика,
🔹 контроль качества,
🔹 интерпретация результата.
Но даже за эти деньги — это одна из самых доступных и важных инвестиций в здоровье.
— Это не приговор, а сигнал, — говорит ректор, — Если Вы попали в красную зону, обратите внимание и поговорите с врачом.
💬 Ключевой смысл высказывания, с которым мы горячо согласны, в следующем:
🔹 анализ крови не даёт готового диагноза, он даёт сигнал — первичную информацию, которая запускает врачебное мышление, дальнейшую диагностику и своевременные действия.
🔹 Такой тест — это не ответ, а вопрос, который нужно задать вовремя.
🩺 Зачем это нужно?
Потому что многие серьёзные заболевания — особенно онкологические — на ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно поэтому ранние сигналы имеют ценность. Они не должны трактоваться как приговор — но они должны быть услышаны.
📌 Пример: анализ CA‑62
Один из таких маркеров, который уже применяется в России — это CA‑62. Он выявляет ранние признаки злокачественных изменений в клетках при раке молочной железы, предстательной железы, лёгких, почек, яичников и кишечника.
🔹 Он не сообщает врачу: «Это рак лёгкого II стадии» — он говорит: «в организме происходят процессы, требующие внимания». И врач начинает искать.
🔬 Главное — это понимание, что ранняя диагностика не равна диагнозу.
Это не "рак у вас", а "есть ли основания углубиться в обследование?".
И именно это понимание мы видим в словах ректора:
▪️ наука поддерживает анализы крови,
▪️ но требует ответственности в интерпретации,
▪️ и реализма в ожиданиях.
🎯 То, что Сколтех поднимает эту тему — важно. То, что в России разрабатываются и применяются тесты на основе анализов крови — не менее важно.
И если врач и пациент начнут относиться к анализу как к интеллектуальному сигналу, а не окончательному приговору — у нас есть шанс по-настоящему изменить подход к диагностике.
И сделать так, чтобы болезнь не ставила точку — а всего лишь запятую.
💰 Далее Александр Петрович сообщает, что анализ крови будет стоить 100-200 рублей. Здесь ректор Сколтеха, пожалуй, излишне оптимистичен.
Реальная розничная стоимость полноценного анализа крови с диагностическим потенциалом — от 5 000 до 10 000 рублей. В эту сумму входит:
🔹 финансирование и организация сертифицированной лаборатории и контрольной лаборатории,
🔹 финансирование и организация разработки и клинических исследований теста,
🔹 работа квалифицированного персонала, который несёт ответственность за безопасную эффективную процедуру,
🔹 лабораторная диагностика,
🔹 контроль качества,
🔹 интерпретация результата.
Но даже за эти деньги — это одна из самых доступных и важных инвестиций в здоровье.
👍12❤2
Что сделала Монтана и что пока что не сделала Россия?
Историческое решение принято в штате Монтана: местный парламент утвердил закон, который разрешает открытие клиник, предлагающих экспериментальные терапии, ещё не одобренные FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США).
💊 Что теперь возможно:
Врачи смогут получать лицензии на открытие клиник, в которых можно назначать и продавать препараты, прошедшие лишь первую фазу клинических испытаний — то есть проверку на безопасность, но не обязательно на эффективность.
До сих пор такие препараты были доступны только терминальным пациентам, в рамках законодательства Right to Try. Теперь же доступ открыт для всех.
📍 Почему это важно:
• Это первый в США закон, позволяющий настолько широкий доступ к новым терапиям.
• Он открывает окно возможностей для пациентов, которым нечего терять — и которые не хотят ждать 10–15 лет до завершения всех этапов исследований.
• И, главное, он закладывает инфраструктуру для новых клиник, включая лицензирование, защиту врачей, и расширенные протоколы информированного согласия.
🌐 США делают ставку на медицинский прорыв. А Россия?
Вот здесь начинаются трудные вопросы.
У нас есть всё, чтобы предложить не меньше — а может быть, и больше:
▪️ мощная исследовательская база,
▪️ уникальные разработки (например, инновационный онкомаркер низкодифференцированных клеток CA‑62),
▪️ Инновационный центр «Сколково», который задумывался как экосистема для технологий будущего,
▪️ собственные производственные мощности.
Но у нас по-прежнему нет регуляторной модели, которая позволила бы переводить прорывные биомедицинские технологии в реальные клинические практики. В нашем законодательстве нет аналога законодательства Right to try, его фактически убрали из экспериментальной практики наших научных центров РАМН, закрыв возможность рефрактерным пациентам получать доступ к экспериментальной терапии в рамках решений локальных этических комитетов.
А теперь США делают новый прорыв, приводящий инновации на их территорию
🧠 Пока США запускают клиники экспериментального лечения, в России даже при наличии многообещающих решений:
• нет механизма для их раннего внедрения,
• нет «зелёного коридора» для работы с трудноподтверждаемыми, но безопасными подходами,
• нет центра, где пациент мог бы получить осознанную, но ещё не зарегистрированную терапию — с документированным риском и на свой выбор.
📈 Монтана создаёт не просто закон — а тестовую площадку для медицины будущего, с прицелом на международный медицинский туризм и ускоренное внедрение новейших решений.
И да — этот рынок будет быстро расти.
🎯 А ведь именно Россия могла бы быть одной из первых стран, где такие подходы реализуются институционально и для большого количества стран близких России (BRICS).
Почему бы не открыть подобный центр в “ИЦ Сколково”?
Где, в партнёрстве с сильнейшими НИИ и лабораториями, можно было бы:
– протестировать новую регуляторную модель,
– предоставить пациентам юридически защищённый доступ к экспериментальному лечению,
– стимулировать рынок высокотехнологичной фармы внутри страны.
📌 Вывод
Пока в США принимают риск ради прогресса, мы рискуем — упустить технологическое окно возможностей.
Не потому что не можем, а потому что не разрешаем себе.
Историческое решение принято в штате Монтана: местный парламент утвердил закон, который разрешает открытие клиник, предлагающих экспериментальные терапии, ещё не одобренные FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США).
💊 Что теперь возможно:
Врачи смогут получать лицензии на открытие клиник, в которых можно назначать и продавать препараты, прошедшие лишь первую фазу клинических испытаний — то есть проверку на безопасность, но не обязательно на эффективность.
До сих пор такие препараты были доступны только терминальным пациентам, в рамках законодательства Right to Try. Теперь же доступ открыт для всех.
📍 Почему это важно:
• Это первый в США закон, позволяющий настолько широкий доступ к новым терапиям.
• Он открывает окно возможностей для пациентов, которым нечего терять — и которые не хотят ждать 10–15 лет до завершения всех этапов исследований.
• И, главное, он закладывает инфраструктуру для новых клиник, включая лицензирование, защиту врачей, и расширенные протоколы информированного согласия.
🌐 США делают ставку на медицинский прорыв. А Россия?
Вот здесь начинаются трудные вопросы.
У нас есть всё, чтобы предложить не меньше — а может быть, и больше:
▪️ мощная исследовательская база,
▪️ уникальные разработки (например, инновационный онкомаркер низкодифференцированных клеток CA‑62),
▪️ Инновационный центр «Сколково», который задумывался как экосистема для технологий будущего,
▪️ собственные производственные мощности.
Но у нас по-прежнему нет регуляторной модели, которая позволила бы переводить прорывные биомедицинские технологии в реальные клинические практики. В нашем законодательстве нет аналога законодательства Right to try, его фактически убрали из экспериментальной практики наших научных центров РАМН, закрыв возможность рефрактерным пациентам получать доступ к экспериментальной терапии в рамках решений локальных этических комитетов.
А теперь США делают новый прорыв, приводящий инновации на их территорию
🧠 Пока США запускают клиники экспериментального лечения, в России даже при наличии многообещающих решений:
• нет механизма для их раннего внедрения,
• нет «зелёного коридора» для работы с трудноподтверждаемыми, но безопасными подходами,
• нет центра, где пациент мог бы получить осознанную, но ещё не зарегистрированную терапию — с документированным риском и на свой выбор.
📈 Монтана создаёт не просто закон — а тестовую площадку для медицины будущего, с прицелом на международный медицинский туризм и ускоренное внедрение новейших решений.
И да — этот рынок будет быстро расти.
🎯 А ведь именно Россия могла бы быть одной из первых стран, где такие подходы реализуются институционально и для большого количества стран близких России (BRICS).
Почему бы не открыть подобный центр в “ИЦ Сколково”?
Где, в партнёрстве с сильнейшими НИИ и лабораториями, можно было бы:
– протестировать новую регуляторную модель,
– предоставить пациентам юридически защищённый доступ к экспериментальному лечению,
– стимулировать рынок высокотехнологичной фармы внутри страны.
📌 Вывод
Пока в США принимают риск ради прогресса, мы рискуем — упустить технологическое окно возможностей.
Не потому что не можем, а потому что не разрешаем себе.
😢6🔥4❤1🤔1
Forwarded from МАММА | Клиника вашего здоровья
На переднем крае науки: новые горизонты ранней диагностики рака молочной железы
Врачи клиники «Мамма» не только ежедневно спасают жизни, но и активно участвуют в научной деятельности, продвигая передовые медицинские разработки.
Онколог-химиотерапевт Александр Моисеевич Борода вернулся с 4-й Международной конференции по современным исследованиям в онкологии и терапии злокачественных опухолей, прошедшей в Дубае, где представил доклад:
«CA-62 и CA 15-3: комбинация биомаркеров для ранней диагностики рака молочной железы».
В своём выступлении он осветил возможности применения нового карцином-специфического маркера CA-62, особенно в сочетании с хорошо известным онкомаркером CA 15-3, для выявления рака молочной железы на самых ранних стадиях — вплоть до стадии 0 (carcinoma in situ).
Концентрация CA-62 определяется с помощью диагностического набора ИХА-СА-62, разработанного командой ООО «Джейвис Диагностикс» (ИЦ «Сколково», Россия).
На сегодняшний день существует высокая потребность в разработке новых методов ранней диагностики, которые были бы точными, экономически доступными и удобными для женщин, проходящих скрининг.
Одним из перспективных решений стало использование CA-62 как самостоятельного диагностического маркера, а в сочетании с CA 15-3 — этот биомаркерный дуэт продемонстрировал наилучшие результаты.
Комбинация CA-62 и CA 15-3 позволяет выявлять рак молочной железы на ранних стадиях с чувствительностью до 75% и специфичностью 100%.
Для сравнения: отдельно CA 15-3 обладает чувствительностью всего 20–38% и не применяется для диагностики на ранних этапах.
Появление нового карцином-специфического маркера CA-62 существенно повышает диагностическую точность, особенно у женщин старше 35 лет, в группе повышенного риска.
Такой подход способен значительно повысить эффективность существующих программ скрининга.
Конференция в Дубае объединила ведущих специалистов в области фундаментальной и клинической онкологии со всего мира.
В числе участников:
• Juan Sanabria (Университет Маршалла, США),
• Yves-Marie Robin (Онкологический центр Оскара Ламбре, Франция),
• Yossi Cohen (Госпиталь Ланиадо — Медицинский центр Санц, Израиль),
• Claudia Bardoni (Европейский институт онкологии, Италия),
• Georges Ziad (Королевская больница Альберта Эдварда, Великобритания),
• Yasmine Kanaan (Медицинский колледж и Онкологический центр Университета Ховарда, США),
• Ankita Pandey (Онкологический институт Рохилкханд, Индия) и другие.
Обмен опытом и обсуждение новейших исследований позволяют наметить наиболее перспективные направления развития современной онкологии.
Мы гордимся нашими специалистами, которые не только применяют, но и активно внедряют инновационные методы диагностики и лечения.
Именно такие научные достижения и их практическая реализация являются основой эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями и ключом к продлению жизни пациентов.
Отдельная благодарность команде ООО «ДжейвисДиагностикс» за разработку методики определения маркера CA-62.
С нетерпением ждём его широкого внедрения в клиническую практику.
#мамма #конференция #наука
Врачи клиники «Мамма» не только ежедневно спасают жизни, но и активно участвуют в научной деятельности, продвигая передовые медицинские разработки.
Онколог-химиотерапевт Александр Моисеевич Борода вернулся с 4-й Международной конференции по современным исследованиям в онкологии и терапии злокачественных опухолей, прошедшей в Дубае, где представил доклад:
«CA-62 и CA 15-3: комбинация биомаркеров для ранней диагностики рака молочной железы».
В своём выступлении он осветил возможности применения нового карцином-специфического маркера CA-62, особенно в сочетании с хорошо известным онкомаркером CA 15-3, для выявления рака молочной железы на самых ранних стадиях — вплоть до стадии 0 (carcinoma in situ).
Концентрация CA-62 определяется с помощью диагностического набора ИХА-СА-62, разработанного командой ООО «Джейвис Диагностикс» (ИЦ «Сколково», Россия).
На сегодняшний день существует высокая потребность в разработке новых методов ранней диагностики, которые были бы точными, экономически доступными и удобными для женщин, проходящих скрининг.
Одним из перспективных решений стало использование CA-62 как самостоятельного диагностического маркера, а в сочетании с CA 15-3 — этот биомаркерный дуэт продемонстрировал наилучшие результаты.
Комбинация CA-62 и CA 15-3 позволяет выявлять рак молочной железы на ранних стадиях с чувствительностью до 75% и специфичностью 100%.
Для сравнения: отдельно CA 15-3 обладает чувствительностью всего 20–38% и не применяется для диагностики на ранних этапах.
Появление нового карцином-специфического маркера CA-62 существенно повышает диагностическую точность, особенно у женщин старше 35 лет, в группе повышенного риска.
Такой подход способен значительно повысить эффективность существующих программ скрининга.
Конференция в Дубае объединила ведущих специалистов в области фундаментальной и клинической онкологии со всего мира.
В числе участников:
• Juan Sanabria (Университет Маршалла, США),
• Yves-Marie Robin (Онкологический центр Оскара Ламбре, Франция),
• Yossi Cohen (Госпиталь Ланиадо — Медицинский центр Санц, Израиль),
• Claudia Bardoni (Европейский институт онкологии, Италия),
• Georges Ziad (Королевская больница Альберта Эдварда, Великобритания),
• Yasmine Kanaan (Медицинский колледж и Онкологический центр Университета Ховарда, США),
• Ankita Pandey (Онкологический институт Рохилкханд, Индия) и другие.
Обмен опытом и обсуждение новейших исследований позволяют наметить наиболее перспективные направления развития современной онкологии.
Мы гордимся нашими специалистами, которые не только применяют, но и активно внедряют инновационные методы диагностики и лечения.
Именно такие научные достижения и их практическая реализация являются основой эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями и ключом к продлению жизни пациентов.
Отдельная благодарность команде ООО «ДжейвисДиагностикс» за разработку методики определения маркера CA-62.
С нетерпением ждём его широкого внедрения в клиническую практику.
#мамма #конференция #наука
🏆6🔥4
МАММА | Клиника вашего здоровья
На переднем крае науки: новые горизонты ранней диагностики рака молочной железы Врачи клиники «Мамма» не только ежедневно спасают жизни, но и активно участвуют в научной деятельности, продвигая передовые медицинские разработки. Онколог-химиотерапевт Александр…
Мы редко когда публикуем материалы других каналов, однако, приятно отметить, что наши соавторы по клинической работе продолжают исследования и выступают с результатами на международных конференциях.
👍6🔥2❤1
После публикации Александр Борода выступил в прямом эфире с рассказом о ранней диагностике рака.
YouTube
Как не пропустить рак: Александр Борода, онколог, химиотерапевт клиники «МАММА»
Прямой эфир «Найди своего доктора» от 21 мая 2025 года.
Спикер — Александр Моисеевич Борода, онколог, химиотерапевт клиники «МАММА».
Тема эфира: как ранняя диагностика спасает жизни и как не пропустить рак?
В эфире поговорим о том, как современные биомаркёры…
Спикер — Александр Моисеевич Борода, онколог, химиотерапевт клиники «МАММА».
Тема эфира: как ранняя диагностика спасает жизни и как не пропустить рак?
В эфире поговорим о том, как современные биомаркёры…
👍6
И снова все о нем - о праве на жизнь и праве на выбор!
По ссылке ниже можете прочитать развитие истории штата Монтана в свете истории незарегистрированного применения медицинских технологий и странного для нас острова Антигуа и незабвенного Гондураса, который просили меньше чесать, изложенная несравненным пером Дмитрия Кулиша. Поверьте - заставляет задуматься. Спасибо Дмитрию. что раскрыл своим прекрасным слогом писателя всю сущность и глубину проблем и черного хайпа про экспериментальное лечение, спонсируемого (имею в виду хайпа), наверное, страховщиками, выплатившими суммы существенно более собранных страховых премий, так как, скорее всего, не правильно определили объем базы страхователей, либо не исключившими экспериментальное лечение за пределы своей ответственности.
Понятно, раз существует разрешённая эвтаназия, то и ограничивать экспериментальное лечение, наверное, не имеет смысла.
Как Вы думаете?
По ссылке ниже можете прочитать развитие истории штата Монтана в свете истории незарегистрированного применения медицинских технологий и странного для нас острова Антигуа и незабвенного Гондураса, который просили меньше чесать, изложенная несравненным пером Дмитрия Кулиша. Поверьте - заставляет задуматься. Спасибо Дмитрию. что раскрыл своим прекрасным слогом писателя всю сущность и глубину проблем и черного хайпа про экспериментальное лечение, спонсируемого (имею в виду хайпа), наверное, страховщиками, выплатившими суммы существенно более собранных страховых премий, так как, скорее всего, не правильно определили объем базы страхователей, либо не исключившими экспериментальное лечение за пределы своей ответственности.
Понятно, раз существует разрешённая эвтаназия, то и ограничивать экспериментальное лечение, наверное, не имеет смысла.
Как Вы думаете?
🤔4🙏1
🧬 PanSeer: тест, который обещал предсказывать рак за годы до симптомов.
Сегодня Анча Баранова (известный биолог и генетик, профессор Университета Джорджа Мейсона, известный популяризатор науки) пригласила меня в свой видео канал, чтобы обсудить раннюю диагностику рака. В процессе разговора она упомянула тест PanSeer — я, признаться, удивился. Никогда раньше о нём не слышал, хотя, как говорит Анча, в Калифорнии он вызвал большой интерес.
PanSeer — это тест, декларировавший о способности выявлять рак за 1–4 года до появления симптомов. Цифры впечатляют: чувствительность 95%, специфичность 96%, выявление бессимптомных форм рака желудка, кишечника, лёгких, печени и пищевода. Однако я не мог не поинтересоваться оригинальной публикацией .
🔍 Что вызвало вопросы?
Во-первых, биология процесса: откуда в крови берётся циркулирующая опухолевая ДНК (ctDNA) на самых ранних стадиях рака? Если клетки живы и целы, а раковые клетки бессмертны, у них отсутствует апоптоз, их генетический материал в кровь не попадает.
Во-вторых, сама методология исследования вызывает вопросы: PanSeer опирается на данные крупного длительного исследования в Китае — более 123 тысяч взрослых в течение более десятилетия проходят мониторинг, сдаётся и хранится кровь, что само по себе представляет уникальную возможность для научных открытий. Даю описание:
Исследователями из 575 выявленных за 4 последних до 2017 года раковых и изначально бессимптомных пациентов, с диагностированным за эти года раками желудка, пищевода, толстой кишки, легких и печени, был отобран 221 образец "до постановки диагноза" В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ВКЛЮЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ В СТАТЬЕ НЕ ПРИВЕДЕНЫ, А В ПРИЛОЖЕНИИ на которое ссылка НИЧЕГО О КРИТРИЯХ НЕ СКАЗАНО, и 221 здоровый образец из 110 501 здорового участника, где рак не был диагностирован в течение 5 лет, зеркально сопоставленных один к одному с аналогичным распределением по возрасту, полу и дате сбора. Также собрано 357 образцов после постановки диагноза из локальных медицинских биобанков и 357 здоровых образцов, зеркально им сопоставленных. Образцы с небольшим количеством уникально картирующих молекул ДНК были удалены (а также соответствующие им здоровые или раковые образцы), в результате чего осталось 191 образец до постановки диагноза, 223 образца после постановки диагноза и 414 здоровых образцов. Образцы были случайным образом разделены на обучающий набор для разработки модели и независимый тестовый набор для проверки модели в равном соотношении с использованием генератора случайных чисел. На основании данных был сделан вывод, что тест позволяет предсказывать появление рака на основании анализа крови за 4 года до манифестации заболевания.
И вот теперь после всего этого "кручу верчу обмануть хочу" видно, что в этом исследовании вызывает вопросы: Для исследования были отобраны 191 образец из 575 (это данные за 4 года) и 223 образца из 357, то есть, отбросили образцы по двум причинам:
1. НЕ НАШЛИ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ОБАЗЦАХ и
2. Выкинули "зеркальные образцы" и статистически не равные группы
ПЕРЕВОЖУ С КИТАЙСКО-АНГЛИЙСКОГО - в образцах не было найдено метелированной ДНК. Исследователи не озаботились этим написав:"Samples with a low number of uniquely mapping DNA molecules were removed". Ну чего их исследовать - "это же просто неправильная "пробоподготовка".
3. Ну и последнее - из таблиц в статье видно, что специфичность теста составила 95%, то есть 5% от здоровых показали ложноположительный результат. Данных о поиске у них рака за три года последовавших за датой отбора до публикации в 2020 нет.
Заморочившись на "равномощности данных" учёные выбросили из исследования то, что нужно было искать - а именно наличие раковых ДНК и соответствие этого количества тому или иному раку и паттерну её фрагментов.
💡 Что дальше?
Тест в целом показал характеристики соответствующие тесту Gallery, но с большими оговорками.
Самое что главное во всем этом исследовании, по моему мнению - это то, что мы увидели, что скорость канцерогенеза может быть очень разной и часть раков растут до выявления до четырёх лет.
Сегодня Анча Баранова (известный биолог и генетик, профессор Университета Джорджа Мейсона, известный популяризатор науки) пригласила меня в свой видео канал, чтобы обсудить раннюю диагностику рака. В процессе разговора она упомянула тест PanSeer — я, признаться, удивился. Никогда раньше о нём не слышал, хотя, как говорит Анча, в Калифорнии он вызвал большой интерес.
PanSeer — это тест, декларировавший о способности выявлять рак за 1–4 года до появления симптомов. Цифры впечатляют: чувствительность 95%, специфичность 96%, выявление бессимптомных форм рака желудка, кишечника, лёгких, печени и пищевода. Однако я не мог не поинтересоваться оригинальной публикацией .
🔍 Что вызвало вопросы?
Во-первых, биология процесса: откуда в крови берётся циркулирующая опухолевая ДНК (ctDNA) на самых ранних стадиях рака? Если клетки живы и целы, а раковые клетки бессмертны, у них отсутствует апоптоз, их генетический материал в кровь не попадает.
Во-вторых, сама методология исследования вызывает вопросы: PanSeer опирается на данные крупного длительного исследования в Китае — более 123 тысяч взрослых в течение более десятилетия проходят мониторинг, сдаётся и хранится кровь, что само по себе представляет уникальную возможность для научных открытий. Даю описание:
Исследователями из 575 выявленных за 4 последних до 2017 года раковых и изначально бессимптомных пациентов, с диагностированным за эти года раками желудка, пищевода, толстой кишки, легких и печени, был отобран 221 образец "до постановки диагноза" В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ВКЛЮЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ В СТАТЬЕ НЕ ПРИВЕДЕНЫ, А В ПРИЛОЖЕНИИ на которое ссылка НИЧЕГО О КРИТРИЯХ НЕ СКАЗАНО, и 221 здоровый образец из 110 501 здорового участника, где рак не был диагностирован в течение 5 лет, зеркально сопоставленных один к одному с аналогичным распределением по возрасту, полу и дате сбора. Также собрано 357 образцов после постановки диагноза из локальных медицинских биобанков и 357 здоровых образцов, зеркально им сопоставленных. Образцы с небольшим количеством уникально картирующих молекул ДНК были удалены (а также соответствующие им здоровые или раковые образцы), в результате чего осталось 191 образец до постановки диагноза, 223 образца после постановки диагноза и 414 здоровых образцов. Образцы были случайным образом разделены на обучающий набор для разработки модели и независимый тестовый набор для проверки модели в равном соотношении с использованием генератора случайных чисел. На основании данных был сделан вывод, что тест позволяет предсказывать появление рака на основании анализа крови за 4 года до манифестации заболевания.
И вот теперь после всего этого "кручу верчу обмануть хочу" видно, что в этом исследовании вызывает вопросы: Для исследования были отобраны 191 образец из 575 (это данные за 4 года) и 223 образца из 357, то есть, отбросили образцы по двум причинам:
1. НЕ НАШЛИ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ОБАЗЦАХ и
2. Выкинули "зеркальные образцы" и статистически не равные группы
ПЕРЕВОЖУ С КИТАЙСКО-АНГЛИЙСКОГО - в образцах не было найдено метелированной ДНК. Исследователи не озаботились этим написав:"Samples with a low number of uniquely mapping DNA molecules were removed". Ну чего их исследовать - "это же просто неправильная "пробоподготовка".
3. Ну и последнее - из таблиц в статье видно, что специфичность теста составила 95%, то есть 5% от здоровых показали ложноположительный результат. Данных о поиске у них рака за три года последовавших за датой отбора до публикации в 2020 нет.
Заморочившись на "равномощности данных" учёные выбросили из исследования то, что нужно было искать - а именно наличие раковых ДНК и соответствие этого количества тому или иному раку и паттерну её фрагментов.
💡 Что дальше?
Тест в целом показал характеристики соответствующие тесту Gallery, но с большими оговорками.
Самое что главное во всем этом исследовании, по моему мнению - это то, что мы увидели, что скорость канцерогенеза может быть очень разной и часть раков растут до выявления до четырёх лет.
🔥6👍3❤2
Вчера вышла первая часть нашей философско - научной беседы с Анчей Барановой, доктором биологических наук, профессором школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, Виргиния, США, специалистом в области функциональной геномики сложных заболеваний человека.
https://www.youtube.com/watch?v=agLkcolCYAI
https://www.youtube.com/watch?v=agLkcolCYAI
❤7👍4
📍Один раз — не рак. А десять?
Или почему молодость — не индульгенция от онкологии
25 лет. Спортсменка. Боли в спине.
Джорджия О’Коннор — британская боксёрша, не любитель, профессионал. Здоровая, сильная, подтянутая. С такими обычно случается что угодно, но не саркома.
А вот и нет. У неё была именно она — забрюшинная. Очень редкая. И очень фатальная, если пропустить момент. Джорджия сходила к врачу с болью пять раз. А потом умерла. Потому что диагноз поставили, когда опухоль уже махала руками из КТ.
Почему её не спасли? Потому что всё шло по плану.
1. Спина болит? Ну так вы спортсменка — мажьте.
2. Всё ещё болит? Физиотерапия, ибупрофен, покой.
3. Болит снова? Ну, может, стресс.
4. И только потом — КТ, саркома, метастазы.
Никаких «врачи-убийцы». Просто алгоритм. У молодых шанс на рак микроскопический. Зачем проверять, если статистика говорит: не может быть?
А теперь ближе к дому. В России сценарий примерно такой же. Даже беднее на КТ-слоты. Даже строже к «лишним» направлениям. Даже более склонен к «подождём». Но есть доступная многим частная медицина, и это не про ДМС, они тоже по "клинрекам" работают.
Но вы не алгоритм. И не статистика. У вас может быть 0,02 %, но вы — на 100 % реальный человек.
Что делать, чтобы не оказаться в этом сюжете?
✔️ Вести дневник симптомов: когда, где, насколько больно. Это не занудство, это доказательство.
✔️ Если за три визита ничего не помогает — просите КТ/МРТ. Или попросите письменный отказ.
✔️ «Боюсь рака» — не просто слова. Это фраза, которая запускает обязательный протокол.
✔️ Есть онкокабинеты по ОМС — туда можно попасть без направления. Да, правда.
Что делают «там», чтобы ловить таких раньше?
— В Британии тестируют спеццентры: приходишь с неясной жалобой — проходишь всё.
— В Финляндии AI следит: если ты приходишь 3 раза за 3 месяца с одной жалобой — тебе автоматически назначают визуализацию.
— У нас тоже есть пилоты. Пока в Москве. Пока у детей. Но суть масштабируемая — алгоритм, а не «подозрительность» врача, решает, когда бить тревогу.
---
Редкий диагноз ≠ редкий пациент.
✔️ Если болит — не сдавайтесь. Вежливо, настойчиво, с бумажками в руках. Система может быть медленной. Но вы — нет.
✔️ Ну и не забывайте: как бы ни ругали частную медицину, у неё есть свои преимущества — при всех недостатках.
✔️ Это не про ДМС. И не про ОМС. Там работают по одним и тем же "клинрекам", без оглядки на редкие сценарии.
✔️ И если даже при сильных симптомах случаются такие сбои — то что уж говорить о ЗНО в "тишине", когда его ещё нужно просто заподозрить?..
Или почему молодость — не индульгенция от онкологии
25 лет. Спортсменка. Боли в спине.
Джорджия О’Коннор — британская боксёрша, не любитель, профессионал. Здоровая, сильная, подтянутая. С такими обычно случается что угодно, но не саркома.
А вот и нет. У неё была именно она — забрюшинная. Очень редкая. И очень фатальная, если пропустить момент. Джорджия сходила к врачу с болью пять раз. А потом умерла. Потому что диагноз поставили, когда опухоль уже махала руками из КТ.
Почему её не спасли? Потому что всё шло по плану.
1. Спина болит? Ну так вы спортсменка — мажьте.
2. Всё ещё болит? Физиотерапия, ибупрофен, покой.
3. Болит снова? Ну, может, стресс.
4. И только потом — КТ, саркома, метастазы.
Никаких «врачи-убийцы». Просто алгоритм. У молодых шанс на рак микроскопический. Зачем проверять, если статистика говорит: не может быть?
А теперь ближе к дому. В России сценарий примерно такой же. Даже беднее на КТ-слоты. Даже строже к «лишним» направлениям. Даже более склонен к «подождём». Но есть доступная многим частная медицина, и это не про ДМС, они тоже по "клинрекам" работают.
Но вы не алгоритм. И не статистика. У вас может быть 0,02 %, но вы — на 100 % реальный человек.
Что делать, чтобы не оказаться в этом сюжете?
✔️ Вести дневник симптомов: когда, где, насколько больно. Это не занудство, это доказательство.
✔️ Если за три визита ничего не помогает — просите КТ/МРТ. Или попросите письменный отказ.
✔️ «Боюсь рака» — не просто слова. Это фраза, которая запускает обязательный протокол.
✔️ Есть онкокабинеты по ОМС — туда можно попасть без направления. Да, правда.
Что делают «там», чтобы ловить таких раньше?
— В Британии тестируют спеццентры: приходишь с неясной жалобой — проходишь всё.
— В Финляндии AI следит: если ты приходишь 3 раза за 3 месяца с одной жалобой — тебе автоматически назначают визуализацию.
— У нас тоже есть пилоты. Пока в Москве. Пока у детей. Но суть масштабируемая — алгоритм, а не «подозрительность» врача, решает, когда бить тревогу.
---
Редкий диагноз ≠ редкий пациент.
✔️ Если болит — не сдавайтесь. Вежливо, настойчиво, с бумажками в руках. Система может быть медленной. Но вы — нет.
✔️ Ну и не забывайте: как бы ни ругали частную медицину, у неё есть свои преимущества — при всех недостатках.
✔️ Это не про ДМС. И не про ОМС. Там работают по одним и тем же "клинрекам", без оглядки на редкие сценарии.
✔️ И если даже при сильных симптомах случаются такие сбои — то что уж говорить о ЗНО в "тишине", когда его ещё нужно просто заподозрить?..
👍17🔥5❤2😢1🥴1
Двойной клик не сработал История Appple, Стива Джобса и Билла Аткинсона - тихий рак, который убивает до диагноза
Когда умер Стив Джобс, основатель Appple, мир начал говорить о раке поджелудочной. Когда умер Билл Аткинсон — стало понятно: этот диагноз по-прежнему ставят слишком поздно. Даже тем, кто всю жизнь опережал время.
Стив Джобс и Билл Аткинсон были на старте Apple, когда она только рождалась в гараже. Один — визионер. Второй — изобретатель двойного клика, гиперссылки и интерфейса, которым вы пользуетесь сейчас.
Оба умерли от рака поджелудочной железы.
И оба — не сразу. Но слишком поздно. Диагноз настиг их тогда, когда медицина уже не могла помочь. А деньги уже не смогли помочь.
Совпадение? Да.
Символ? Тоже да.
Потому что рак поджелудочной не делает скидок на интеллект, доступ к медицине, величину капитала или страховые полисы Кремниевой долины. Он просто не проявляется — пока не поздно.
Билл Аткинсон, придумавший двойной клик, гиперссылку и интерфейс, без которого Apple не была бы Apple умер в 74 от панкреатической аденокарциномы. Редкого рака? Нет. Просто рака,
который слишком долго прячется.
📌 У 80 % пациентов рак поджелудочной находят уже на неоперабельной стадии.
📌 Симптомов — почти нет.
📌 Выживаемость через 5 лет — около 9 %.
Всё ещё звучит как «это не про меня»?
🤫 Почему рак поджелудочной ускользает
Потому что:
- Боли может не быть.
- Пищеварение может не подсказывать.
- Диабет может показаться случайным.
- И даже УЗИ может ничего не показать — слишком «глубокая» зона.
Рак поджелудочной — это как баг в системе, который не ловит ни врач, ни пациент. А когда ловит — уже поздно.
🧬 Что меняется?
В отличие от времён Джобса, сегодня у нас появляются инструменты раннего поиска. Один из них — CA-62, чувствительный маркер онкоперерождения, который реагирует ещё до симптомов.
Он не заменяет визуализацию. Не ставит диагноз.
Но он — один из немногих, кто видит движение опухоли в самом начале.
📌 При опухолях поджелудочной CA-62 может быть положительным до классических признаков и изменений других анализов.
📌 Он не привязан к локализации. Он ловит сам факт злокачественного процесса. И это его сила.
💡 Что делать, если вы в группе риска?
В семье был рак поджелудочной, молочной, яичников или простаты? Это может быть BRCA-ассоциированный риск.
Внезапный диабет «на ровном месте»? Не отмахивайтесь.
Стойкий дискомфорт в эпигастрии, потеря веса, необъяснимая слабость? Это не повод ждать.
👉 В этих случаях CA-62 может быть вашим «двойным кликом». Выбран → проверен. Ещё до боли, до поздней стадии, до диагноза.
Билл Аткинсон оставил нам удобный способ обращаться с машинами.
Теперь наша задача — сделать то же самое для собственного тела: научиться замечать сигналы до того, как оно зависнет.
📍Где сдать?
Анализ на CA-62 доступен в лаборатории СИТИЛАБ — его можно сдать самостоятельно, во многих городах России.
Нужен только паспорт и натощак.
🔁 И да, важный момент про “двойной клик”:
Если результат оказался повышенным, но исходно рак не подозревался — мы рекомендуем наш "двойной клик" - повторный тест через 4–8 недель. Это помогает исключить влияние иммунных процессов, вакцинации, регенерации тканей и других временных состояний.
📉 Для повторного анализа мы организуем персональные скидки, чтобы поддержать тех, кому важно не упустить момент — но и не поддаться ложной тревоге.
Когда умер Стив Джобс, основатель Appple, мир начал говорить о раке поджелудочной. Когда умер Билл Аткинсон — стало понятно: этот диагноз по-прежнему ставят слишком поздно. Даже тем, кто всю жизнь опережал время.
Стив Джобс и Билл Аткинсон были на старте Apple, когда она только рождалась в гараже. Один — визионер. Второй — изобретатель двойного клика, гиперссылки и интерфейса, которым вы пользуетесь сейчас.
Оба умерли от рака поджелудочной железы.
И оба — не сразу. Но слишком поздно. Диагноз настиг их тогда, когда медицина уже не могла помочь. А деньги уже не смогли помочь.
Совпадение? Да.
Символ? Тоже да.
Потому что рак поджелудочной не делает скидок на интеллект, доступ к медицине, величину капитала или страховые полисы Кремниевой долины. Он просто не проявляется — пока не поздно.
Билл Аткинсон, придумавший двойной клик, гиперссылку и интерфейс, без которого Apple не была бы Apple умер в 74 от панкреатической аденокарциномы. Редкого рака? Нет. Просто рака,
который слишком долго прячется.
📌 У 80 % пациентов рак поджелудочной находят уже на неоперабельной стадии.
📌 Симптомов — почти нет.
📌 Выживаемость через 5 лет — около 9 %.
Всё ещё звучит как «это не про меня»?
🤫 Почему рак поджелудочной ускользает
Потому что:
- Боли может не быть.
- Пищеварение может не подсказывать.
- Диабет может показаться случайным.
- И даже УЗИ может ничего не показать — слишком «глубокая» зона.
Рак поджелудочной — это как баг в системе, который не ловит ни врач, ни пациент. А когда ловит — уже поздно.
🧬 Что меняется?
В отличие от времён Джобса, сегодня у нас появляются инструменты раннего поиска. Один из них — CA-62, чувствительный маркер онкоперерождения, который реагирует ещё до симптомов.
Он не заменяет визуализацию. Не ставит диагноз.
Но он — один из немногих, кто видит движение опухоли в самом начале.
📌 При опухолях поджелудочной CA-62 может быть положительным до классических признаков и изменений других анализов.
📌 Он не привязан к локализации. Он ловит сам факт злокачественного процесса. И это его сила.
💡 Что делать, если вы в группе риска?
В семье был рак поджелудочной, молочной, яичников или простаты? Это может быть BRCA-ассоциированный риск.
Внезапный диабет «на ровном месте»? Не отмахивайтесь.
Стойкий дискомфорт в эпигастрии, потеря веса, необъяснимая слабость? Это не повод ждать.
👉 В этих случаях CA-62 может быть вашим «двойным кликом». Выбран → проверен. Ещё до боли, до поздней стадии, до диагноза.
Билл Аткинсон оставил нам удобный способ обращаться с машинами.
Теперь наша задача — сделать то же самое для собственного тела: научиться замечать сигналы до того, как оно зависнет.
📍Где сдать?
Анализ на CA-62 доступен в лаборатории СИТИЛАБ — его можно сдать самостоятельно, во многих городах России.
Нужен только паспорт и натощак.
🔁 И да, важный момент про “двойной клик”:
Если результат оказался повышенным, но исходно рак не подозревался — мы рекомендуем наш "двойной клик" - повторный тест через 4–8 недель. Это помогает исключить влияние иммунных процессов, вакцинации, регенерации тканей и других временных состояний.
📉 Для повторного анализа мы организуем персональные скидки, чтобы поддержать тех, кому важно не упустить момент — но и не поддаться ложной тревоге.
🔥14❤5👍2🙏2🤔1
День медработника, ИИ-диагностика и старая добрая “онконастороженность” — как это всё сочетается?
Сегодня врачи принимают поздравления, а Росздравнадзор — новые заявки на «инновации». 25 мая вышло РУ № РЗН 2025/25453 на Galenos.AI от «ТехЛАБ». Компания подаёт сервис как «изделие для раннего выявления рака». Но заглядываем внутрь — и видим:
▸ 82 предиктора (6 объективных параметров из ЭМК + 76 симптомов от пациентов).
▸ Алгоритм строит экспертное мнение, совпадая с двумя онкологами в 94-95 % случаев на выборке ≈ 5 000 анкет.
▸ Выход — не диагноз, а пачка PDF-форм для программы «Онконастороженность», за которые поликлиника получает премии.
Круто? Отчасти. Но ранним выявлением это назвать сложно: если пациент уже набрал хотя бы три из 76 симптомов, мы говорим об инвазивной стадии, а не о «доклиническом поиске». И всё же повод обсудить.
🙌 Сначала — аплодисменты медработникам
У терапевта на участке — две минуты на приём и пять отчётов к вечеру. Galenos.AI автоматизирует бюрократию, подставляет цитаты из клинреков и печатает направление. Если ИИ заберёт бумагу, а врачу останется пациент — уже праздник.
🤔 А теперь — ложка иронии
«Ранняя» ≠ «симптомная». Настоящее раннее выявление ловит доклинический рак (тот самый, когда опухоль ≤ 2 см и никак себя не выдаёт).
95 % совпадения с мнением двух экспертов — красиво, но не RCT (рандомизированные клинические исследования) и не многоцентровое исследование.
Когнитивная ловушка маркетинга: назови экспертную подсказку «выявлением» — и половина СМИ напишет, будто рак теперь ищут по селфи.
🔧 Где польза?
1. Заполняет пробел в учётных формах «Онконастороженности».
2. Напоминает врачу про онкориски, даже если тот «выгорел» смотреть на жалобы.
3. Станет кнутом для регионов, где KPI по активно впервые выявленному раку всякий год идёт ко дну.
⚠️ Где границы?
Нет лабораторного маркера — нет настоящего скрининга. Пока в алгоритме лишь слова и цифры из ЭМК.
Данные субъективны: пациент часто не вспомнит, болела ли спина «острой» или «ноющей» болью.
Онконастороженность ≠ онкопаника. Если каждую жалобу превращать в «подозрение», получим лавину КТ «на всякий случай» — и дефицит слотов для тех, кому они правда нужны.
🛠 Что делать нам — и вам
Доверяем, но проверяем. Любой “AI inside” — это ещё один врач-консультант, а не последний суд.
Ловим рак до симптомов. В арсенале — маркер раннего перерождения клеток в низкодифференцированные (тот же CA-62), ежегодные чекапы и внимательность к собственному телу.
Поддерживаем медиков. Наш день сегодня не только праздник, но и напоминание: без людей даже лучший алгоритм — просто PDF-генератор.
🎉 Спасибо врачам за то, что держат удар реальности.
А Galenos.AI — добро пожаловать в поликлиники.
Только помним: цифры помогают, но решают рано или поздно время и настойчивость пациента.
Успеть раньше рака — реально. Особенно если мы с алгоритмами играем в одной команде, а не подменяем ими смысл слов «раннее выявление».
Сегодня врачи принимают поздравления, а Росздравнадзор — новые заявки на «инновации». 25 мая вышло РУ № РЗН 2025/25453 на Galenos.AI от «ТехЛАБ». Компания подаёт сервис как «изделие для раннего выявления рака». Но заглядываем внутрь — и видим:
▸ 82 предиктора (6 объективных параметров из ЭМК + 76 симптомов от пациентов).
▸ Алгоритм строит экспертное мнение, совпадая с двумя онкологами в 94-95 % случаев на выборке ≈ 5 000 анкет.
▸ Выход — не диагноз, а пачка PDF-форм для программы «Онконастороженность», за которые поликлиника получает премии.
Круто? Отчасти. Но ранним выявлением это назвать сложно: если пациент уже набрал хотя бы три из 76 симптомов, мы говорим об инвазивной стадии, а не о «доклиническом поиске». И всё же повод обсудить.
🙌 Сначала — аплодисменты медработникам
У терапевта на участке — две минуты на приём и пять отчётов к вечеру. Galenos.AI автоматизирует бюрократию, подставляет цитаты из клинреков и печатает направление. Если ИИ заберёт бумагу, а врачу останется пациент — уже праздник.
🤔 А теперь — ложка иронии
«Ранняя» ≠ «симптомная». Настоящее раннее выявление ловит доклинический рак (тот самый, когда опухоль ≤ 2 см и никак себя не выдаёт).
95 % совпадения с мнением двух экспертов — красиво, но не RCT (рандомизированные клинические исследования) и не многоцентровое исследование.
Когнитивная ловушка маркетинга: назови экспертную подсказку «выявлением» — и половина СМИ напишет, будто рак теперь ищут по селфи.
🔧 Где польза?
1. Заполняет пробел в учётных формах «Онконастороженности».
2. Напоминает врачу про онкориски, даже если тот «выгорел» смотреть на жалобы.
3. Станет кнутом для регионов, где KPI по активно впервые выявленному раку всякий год идёт ко дну.
⚠️ Где границы?
Нет лабораторного маркера — нет настоящего скрининга. Пока в алгоритме лишь слова и цифры из ЭМК.
Данные субъективны: пациент часто не вспомнит, болела ли спина «острой» или «ноющей» болью.
Онконастороженность ≠ онкопаника. Если каждую жалобу превращать в «подозрение», получим лавину КТ «на всякий случай» — и дефицит слотов для тех, кому они правда нужны.
🛠 Что делать нам — и вам
Доверяем, но проверяем. Любой “AI inside” — это ещё один врач-консультант, а не последний суд.
Ловим рак до симптомов. В арсенале — маркер раннего перерождения клеток в низкодифференцированные (тот же CA-62), ежегодные чекапы и внимательность к собственному телу.
Поддерживаем медиков. Наш день сегодня не только праздник, но и напоминание: без людей даже лучший алгоритм — просто PDF-генератор.
🎉 Спасибо врачам за то, что держат удар реальности.
А Galenos.AI — добро пожаловать в поликлиники.
Только помним: цифры помогают, но решают рано или поздно время и настойчивость пациента.
Успеть раньше рака — реально. Особенно если мы с алгоритмами играем в одной команде, а не подменяем ими смысл слов «раннее выявление».
❤17🔥3👍2
Что общего у пыльцы и раковой клетки? Невидимые нити в нашем организме.
Коллеги, доброго дня. Сегодня предлагаю немного отвлечься от рутинных новостей и взглянуть на привычные вещи под несколько иным, биохимическим углом. Часто ли вы списываете дурное настроение на осеннюю хандру, а заложенный нос – исключительно на цветение березы? Давайте посмотрим, насколько эти, казалось бы, далекие друг от друга состояния могут быть связаны.
Сегодняшний наш разговор – о не самом очевидном союзе: воспалении, аллергии и депрессии.
- Немного цифр для скептиков.
Начнем с того, что исследователи, проанализировав данные десятков тысяч пациентов, обнаружили, что у трети людей с депрессией повышен уровень С-реактивного белка – всем известного маркера системного воспаления. В свою очередь, крупный метаанализ (более 2,5 млн участников) показал: наличие аллергических заболеваний повышает риск развития депрессии почти в 1.6 раза. Механизм, по-видимому, кроется в общности путей: одни и те же сигнальные молекулы – провоспалительные цитокины – могут дирижировать как иммунным ответом на условную пыльцу, так и влиять на нейрохимические процессы в мозге.
И вот здесь разговор приобретает уже совсем нешуточный оборот, напрямую затрагивая нашу основную тематику.
- При чем здесь рак?
Ключевое слово, объединяющее все эти состояния, – хроническое воспаление. Это не то острое воспаление, которое помогает заживить порез. Это вялотекущий, изнуряющий процесс, который может длиться годами, незаметно создавая в организме весьма неблагоприятную среду.
Хроническое воспаление является одним из наиболее изученных и подтвержденных факторов риска развития онкологических заболеваний. Почему?
- Оно способствует постоянному делению клеток, что повышает вероятность случайных мутаций.
- Воспалительная среда богата активными формами кислорода, которые могут напрямую повреждать ДНК.
- Провоспалительные цитокины могут действовать как факторы роста для уже существующих микроопухолей.
Получается, что хронический аллергический ринит или системные воспалительные реакции, которые мы склонны считать лишь причиной плохого настроения или дискомфорта, на самом деле поддерживают в организме тот самый "парниковый эффект", в котором могут зародиться и развиться нежелательные клеточные процессы.
Какой из этого можно сделать практический вывод для думающего человека?
Речь не о том, чтобы каждый человек с аллергией впадал в онкофобию. Речь о смене парадигмы. Раннее выявление – это не только поиск уже существующей опухоли с помощью сложного оборудования. В самом широком смысле, это управление рисками на самом фундаментальном, клеточном уровне.
Контроль над хроническими воспалительными заболеваниями, будь то аллергия, заболевания суставов или кишечника, перестает быть просто задачей по улучшению качества жизни. Это становится элементом долгосрочной стратегии по снижению онкологических рисков. Внимание к таким "фоновым" процессам и есть самая ранняя форма диагностики – диагностика предрасполагающей среды в собственном организме.
Так что, возможно, ваш насморк, вселенская печаль и потенциальные клеточные риски – действительно дальние родственники, говорящие на одном и том же биохимическом языке цитокинов. И прислушиваться к их разговору стоит с особым вниманием.
Коллеги, доброго дня. Сегодня предлагаю немного отвлечься от рутинных новостей и взглянуть на привычные вещи под несколько иным, биохимическим углом. Часто ли вы списываете дурное настроение на осеннюю хандру, а заложенный нос – исключительно на цветение березы? Давайте посмотрим, насколько эти, казалось бы, далекие друг от друга состояния могут быть связаны.
Сегодняшний наш разговор – о не самом очевидном союзе: воспалении, аллергии и депрессии.
- Немного цифр для скептиков.
Начнем с того, что исследователи, проанализировав данные десятков тысяч пациентов, обнаружили, что у трети людей с депрессией повышен уровень С-реактивного белка – всем известного маркера системного воспаления. В свою очередь, крупный метаанализ (более 2,5 млн участников) показал: наличие аллергических заболеваний повышает риск развития депрессии почти в 1.6 раза. Механизм, по-видимому, кроется в общности путей: одни и те же сигнальные молекулы – провоспалительные цитокины – могут дирижировать как иммунным ответом на условную пыльцу, так и влиять на нейрохимические процессы в мозге.
И вот здесь разговор приобретает уже совсем нешуточный оборот, напрямую затрагивая нашу основную тематику.
- При чем здесь рак?
Ключевое слово, объединяющее все эти состояния, – хроническое воспаление. Это не то острое воспаление, которое помогает заживить порез. Это вялотекущий, изнуряющий процесс, который может длиться годами, незаметно создавая в организме весьма неблагоприятную среду.
Хроническое воспаление является одним из наиболее изученных и подтвержденных факторов риска развития онкологических заболеваний. Почему?
- Оно способствует постоянному делению клеток, что повышает вероятность случайных мутаций.
- Воспалительная среда богата активными формами кислорода, которые могут напрямую повреждать ДНК.
- Провоспалительные цитокины могут действовать как факторы роста для уже существующих микроопухолей.
Получается, что хронический аллергический ринит или системные воспалительные реакции, которые мы склонны считать лишь причиной плохого настроения или дискомфорта, на самом деле поддерживают в организме тот самый "парниковый эффект", в котором могут зародиться и развиться нежелательные клеточные процессы.
Какой из этого можно сделать практический вывод для думающего человека?
Речь не о том, чтобы каждый человек с аллергией впадал в онкофобию. Речь о смене парадигмы. Раннее выявление – это не только поиск уже существующей опухоли с помощью сложного оборудования. В самом широком смысле, это управление рисками на самом фундаментальном, клеточном уровне.
Контроль над хроническими воспалительными заболеваниями, будь то аллергия, заболевания суставов или кишечника, перестает быть просто задачей по улучшению качества жизни. Это становится элементом долгосрочной стратегии по снижению онкологических рисков. Внимание к таким "фоновым" процессам и есть самая ранняя форма диагностики – диагностика предрасполагающей среды в собственном организме.
Так что, возможно, ваш насморк, вселенская печаль и потенциальные клеточные риски – действительно дальние родственники, говорящие на одном и том же биохимическом языке цитокинов. И прислушиваться к их разговору стоит с особым вниманием.
❤14👍7🔥3👏1😱1
Крах генетической теории рака?
Ученые говорят о том, что не более 5% случаев рака предопределены.
Весьма занимательная работа была опубликована недавно в PLOS Biology. С трудами Карлоса Сонненшайна и Аны Сото учеными, занимающиеся канцерогенезом, многие знакомы не понаслышке, они уже не первое десятилетие являются главными апологетами так называемой "Теории тканевой организации" (Tissue Organization Field Theory, TOFT). Данная статья — это не столько публикация новых экспериментальных данных, сколько прекрасно сформулированная теоретическая рамка, своего рода манифест, обобщающий их многолетние размышления и косвенные доказательства. И, должны признать, их концепция обладает определенной интеллектуальной элегантностью.
Итак по существу. Основная идея авторов, если опустить академические тонкости, такова:
- "Настройкой по умолчанию" для любой клетки является пролиферация (деление) с некоторыми вариациями. Это ее естественное состояние, как для камня — падать под действием гравитации.
- В здоровом организме этот позыв к делению постоянно сдерживается жёсткими рамками многоклеточной кооперации и тканевой архитектуры. Соседние клетки и межклеточный матрикс как бы "говорят" клетке: "Спокойно, ты часть целого, веди себя прилично".
- Канцерогенез, с их точки зрения, — это не приобретение клеткой новых "злых" свойств через мутации. Это, в первую очередь, разрушение вот этого сдерживающего тканевого контекста. Как только клетка освобождается от "оков" правильной архитектуры, она просто возвращается к своему "заводскому" состоянию — низкой дифференцированности и бесконтрольному делению, со структурой определяемой ее микроокружением.
- Мутации и геномная нестабильность в этой модели — не причина, а скорее, неизбежное и хаотичное следствие. Не "сломавшийся робот" вызывает крушение, а крушение упорядоченной системы приводит к поломкам роботов.
Новая, или, скажем так, дополняющая парадигма, вероятно, акцентирует внимание на том, что рак — это в первую очередь нарушение тканевой организации, метаболизма и межклеточных коммуникаций. То есть, гены могут быть и не сломаны, или их поломка — это следствие, а не первопричина. Причина же кроется в нарушении "социальной" жизни клеток в ткани. Сюда отлично вписываются теории о роли хронического воспаления, об изменениях в микроокружении опухоли, о метаболических сдвигах (привет, «старый добрый эффект Варбурга» в новой аранжировке и в понятных причинах) и эпигенетических модификациях.
Почему спор разгорелся снова? SMT (Somatic Mutation Theory) держалась полвека: мутация → драйвер → клональная экспансия. TOFT (Tissue Organization Field Theory) отвечает: в нормальных тканях полно «драйверов», но рак здесь редкость; значит, решает не поломка гена, а сбой тканевой архитектуры.
Это действительно серьёзный сдвиг парадигмы от клеточно-центричной (и генно-центричной) к ткане-центричной. Это приводит к смещению фокуса с генотипа на фенотип:
- Классический подход породил бум генетических тестов, поиска мутаций в циркулирующей ДНК (ctDNA) и так далее. Это поиск "чертежа" поломки. Биомаркер CA-62, является N-гликопротеином, характерным для низкодифференцированных клеток и отражает текущее состояние.
- Ранняя диагностика. Мутации могут накапливаться годами, и не каждая из них приводит к клинически значимому раку. А вот нарушение тканевого гомеостаза и метаболические сдвиги, отражающиеся уровнем CA-62 - ранним и динамичным индикатором того, что в системе что-то пошло не так. Таким образом измеряется не угроза, а уже начавшийся процесс. Что гораздо явно важно для клинициста, особенно первичного звена - терапевтов, урологов и гинекологов .
- Таким образом, мы не просто говорим "наш тест находит рак", а объясняем, почему мы делаем это на более глубоком, концептуальном уровне, не являясь очередным онкомаркером из прошлого века, а диагностическим инструментом, работающим в русле самой передовой концепции канцерогенеза, позволяющий уловить болезнь на уровне нарушения фундаментальных принципов биологии, а не просто искать опечатки в генетическом тексте.
Почитать еще
Ученые говорят о том, что не более 5% случаев рака предопределены.
Весьма занимательная работа была опубликована недавно в PLOS Biology. С трудами Карлоса Сонненшайна и Аны Сото учеными, занимающиеся канцерогенезом, многие знакомы не понаслышке, они уже не первое десятилетие являются главными апологетами так называемой "Теории тканевой организации" (Tissue Organization Field Theory, TOFT). Данная статья — это не столько публикация новых экспериментальных данных, сколько прекрасно сформулированная теоретическая рамка, своего рода манифест, обобщающий их многолетние размышления и косвенные доказательства. И, должны признать, их концепция обладает определенной интеллектуальной элегантностью.
Итак по существу. Основная идея авторов, если опустить академические тонкости, такова:
- "Настройкой по умолчанию" для любой клетки является пролиферация (деление) с некоторыми вариациями. Это ее естественное состояние, как для камня — падать под действием гравитации.
- В здоровом организме этот позыв к делению постоянно сдерживается жёсткими рамками многоклеточной кооперации и тканевой архитектуры. Соседние клетки и межклеточный матрикс как бы "говорят" клетке: "Спокойно, ты часть целого, веди себя прилично".
- Канцерогенез, с их точки зрения, — это не приобретение клеткой новых "злых" свойств через мутации. Это, в первую очередь, разрушение вот этого сдерживающего тканевого контекста. Как только клетка освобождается от "оков" правильной архитектуры, она просто возвращается к своему "заводскому" состоянию — низкой дифференцированности и бесконтрольному делению, со структурой определяемой ее микроокружением.
- Мутации и геномная нестабильность в этой модели — не причина, а скорее, неизбежное и хаотичное следствие. Не "сломавшийся робот" вызывает крушение, а крушение упорядоченной системы приводит к поломкам роботов.
Новая, или, скажем так, дополняющая парадигма, вероятно, акцентирует внимание на том, что рак — это в первую очередь нарушение тканевой организации, метаболизма и межклеточных коммуникаций. То есть, гены могут быть и не сломаны, или их поломка — это следствие, а не первопричина. Причина же кроется в нарушении "социальной" жизни клеток в ткани. Сюда отлично вписываются теории о роли хронического воспаления, об изменениях в микроокружении опухоли, о метаболических сдвигах (привет, «старый добрый эффект Варбурга» в новой аранжировке и в понятных причинах) и эпигенетических модификациях.
Почему спор разгорелся снова? SMT (Somatic Mutation Theory) держалась полвека: мутация → драйвер → клональная экспансия. TOFT (Tissue Organization Field Theory) отвечает: в нормальных тканях полно «драйверов», но рак здесь редкость; значит, решает не поломка гена, а сбой тканевой архитектуры.
Это действительно серьёзный сдвиг парадигмы от клеточно-центричной (и генно-центричной) к ткане-центричной. Это приводит к смещению фокуса с генотипа на фенотип:
- Классический подход породил бум генетических тестов, поиска мутаций в циркулирующей ДНК (ctDNA) и так далее. Это поиск "чертежа" поломки. Биомаркер CA-62, является N-гликопротеином, характерным для низкодифференцированных клеток и отражает текущее состояние.
- Ранняя диагностика. Мутации могут накапливаться годами, и не каждая из них приводит к клинически значимому раку. А вот нарушение тканевого гомеостаза и метаболические сдвиги, отражающиеся уровнем CA-62 - ранним и динамичным индикатором того, что в системе что-то пошло не так. Таким образом измеряется не угроза, а уже начавшийся процесс. Что гораздо явно важно для клинициста, особенно первичного звена - терапевтов, урологов и гинекологов .
- Таким образом, мы не просто говорим "наш тест находит рак", а объясняем, почему мы делаем это на более глубоком, концептуальном уровне, не являясь очередным онкомаркером из прошлого века, а диагностическим инструментом, работающим в русле самой передовой концепции канцерогенеза, позволяющий уловить болезнь на уровне нарушения фундаментальных принципов биологии, а не просто искать опечатки в генетическом тексте.
Почитать еще
👍18🔥6❤4👏2
CA‑62: Профосмотр нового поколения — когда скрининг становится управлением человеческим капиталом
Когда меня спрашивают, зачем вообще нужен очередной скрининговый тест, если КТ и МРТ всё равно никто не проходит, а «звоночки» онкологии в рабочем чате обсуждать не принято, я обычно улыбаюсь. Скрининг — это не про поиск “здесь и сейчас”, а про создание привычки быть здоровым — и честным с самим собой.
За последние годы мне пришлось наблюдать, как компании в попытках снизить потери от онкозаболеваний топорно расширяли профосмотры: аппараты закупили, кабинеты открыли, а явка — нулевая. Диалог о здоровье всё еще не принято начинать без «грома и молний» со стороны начальства.
А между тем, эпидемиология неумолима: среди сотрудников старше 45 лет с онкорисками ежегодно «выстреливает» примерно 1 случай на 100. Но как найти его, если каждый отдельный опухолевый маркер — как иголка в стоге сена?
Тут и появляется CA‑62, который мы протестировали на 1005 сотрудниках, уже прошедших стандартную (а зачастую и расширенную) диспансеризацию — то есть, с точки зрения классических методов, бессимптомных и "здоровых". Вот несколько кейсов, которые лично меня поразили:
— Абсолютно все (!) сотрудники с уже подтверждённым раком были выявлены этим тестом. Ни один не ушёл незамеченным.
— Один новый случай рака был найден в течение последующего года наблюдения — несмотря на то, что на старте не было ни малейших подозрений, ни у врача, ни у самой сотрудницы.
Но для меня самое ценное — это не только про онкологию.
CA‑62 реагирует на “низкодифференцированные” клетки. И вот тут начинается магия: 6% наших коллег получили «красный флажок» не потому, что у них уже рак, а потому что организм подаёт сигналы — острые воспаления ЖКТ, полипы, обострение аутоиммунных болезней. По сути, тест работает как умный термометр: если в организме что-то не так — он даст знать заранее, иногда задолго до серьёзных симптомов.
Да, не все идут дальше обследоваться (треть решили “переждать”, может, и зря), но у кого хватило решимости — нашли всё: от полипов, которые реально предраковые, до хронических гепатитов.
Корпоративная ценность? Не в том, чтобы “отловить” рак на ранней стадии (хотя это, согласитесь, роскошно). А в том, чтобы дать людям инструмент, который сигналит не только об онкологии, но и обо всех “скрытых поломках”.
Это уже не просто медосмотр “от галочки”. Это новый язык корпоративного здоровья.
И если вы всё ещё считаете, что профилактика — это трата времени, попробуйте взглянуть на это как на инвестицию: вы ведь не отправляете свой автомобиль в сервис только когда двигатель уже стучит, верно?
CA‑62 — это тот самый “чек-ап”, который не пугает, а даёт возможность действовать проактивно. А для бизнеса — это реально про устойчивое развитие и снижение невидимых издержек.
Когда меня спрашивают, зачем вообще нужен очередной скрининговый тест, если КТ и МРТ всё равно никто не проходит, а «звоночки» онкологии в рабочем чате обсуждать не принято, я обычно улыбаюсь. Скрининг — это не про поиск “здесь и сейчас”, а про создание привычки быть здоровым — и честным с самим собой.
За последние годы мне пришлось наблюдать, как компании в попытках снизить потери от онкозаболеваний топорно расширяли профосмотры: аппараты закупили, кабинеты открыли, а явка — нулевая. Диалог о здоровье всё еще не принято начинать без «грома и молний» со стороны начальства.
А между тем, эпидемиология неумолима: среди сотрудников старше 45 лет с онкорисками ежегодно «выстреливает» примерно 1 случай на 100. Но как найти его, если каждый отдельный опухолевый маркер — как иголка в стоге сена?
Тут и появляется CA‑62, который мы протестировали на 1005 сотрудниках, уже прошедших стандартную (а зачастую и расширенную) диспансеризацию — то есть, с точки зрения классических методов, бессимптомных и "здоровых". Вот несколько кейсов, которые лично меня поразили:
— Абсолютно все (!) сотрудники с уже подтверждённым раком были выявлены этим тестом. Ни один не ушёл незамеченным.
— Один новый случай рака был найден в течение последующего года наблюдения — несмотря на то, что на старте не было ни малейших подозрений, ни у врача, ни у самой сотрудницы.
Но для меня самое ценное — это не только про онкологию.
CA‑62 реагирует на “низкодифференцированные” клетки. И вот тут начинается магия: 6% наших коллег получили «красный флажок» не потому, что у них уже рак, а потому что организм подаёт сигналы — острые воспаления ЖКТ, полипы, обострение аутоиммунных болезней. По сути, тест работает как умный термометр: если в организме что-то не так — он даст знать заранее, иногда задолго до серьёзных симптомов.
Да, не все идут дальше обследоваться (треть решили “переждать”, может, и зря), но у кого хватило решимости — нашли всё: от полипов, которые реально предраковые, до хронических гепатитов.
Корпоративная ценность? Не в том, чтобы “отловить” рак на ранней стадии (хотя это, согласитесь, роскошно). А в том, чтобы дать людям инструмент, который сигналит не только об онкологии, но и обо всех “скрытых поломках”.
Это уже не просто медосмотр “от галочки”. Это новый язык корпоративного здоровья.
И если вы всё ещё считаете, что профилактика — это трата времени, попробуйте взглянуть на это как на инвестицию: вы ведь не отправляете свой автомобиль в сервис только когда двигатель уже стучит, верно?
CA‑62 — это тот самый “чек-ап”, который не пугает, а даёт возможность действовать проактивно. А для бизнеса — это реально про устойчивое развитие и снижение невидимых издержек.
❤15❤🔥4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня у нас интересная новость. Это, конечно больше про нас и наш проект и мы рады, что Москва продолжает нас поддерживать и рассказывая о Московском инновационном кластере начали с рассказа о наших достижениях (с 15 до 130 секунды).
👍8🔥6
Динозавр в лаборатории: реальность и мифы ранней диагностики рака
Меня всегда восхищает детская вера в чудо, но ещё больше — взрослый оптимизм в вопросах ранней диагностики рака. Сколько раз я слышал: «Скоро онкомаркеры и ИИ на КТ поймают 100% раннего бессимптомного рака!». Тут невольно вспоминаешь анекдот про динозавра на улице: если вы видите его из окна, скорее всего, это ростовая кукла, а не сенсация века.
И вот почему: давайте посчитаем по-байесовски, а не по интуиции. Вероятность, что у совершенно здорового взрослого старше 45 лет действительно есть рак, — это примерно 1,1% по всем видам или даже 0,005–0,1% по отдельным локализациям (колоректальный, легкое и т.д.). Иными словами, в толпе из 10 000 проверяемых людей мы с трудом найдем десяток настоящих больных индивидуальным раком с частотой 0,1%.
Теперь представим: у нас в руках суперсовременный тест с заявленной специфичностью 99,6% и (для фантазии) чувствительностью 20%. Как это выглядит в цифрах?
В 10 000 тестируемых — 10 реальных больных индивидуальным раком.
Тест определяет 2 настоящих случая (20% чувствительность).
Ложноположительных (здоровых, получивших тревожный результат) — 40 человек (при специфичности 99,6%).
Перевожу: на одного действительно больного у нас приходится двадцать (!) испуганных здоровых, попавших под каток скрининга. Байес тут, как строгий бухгалтер, всегда укажет на холодную математику: вероятность реально иметь рак при положительном тесте (PPV) — вовсе не 99%, а от силы 10%. В зависимости от того, какой именно тест, на какой рак и как часто повторять.
То есть если вам показалось, что на улице динозавр, с вероятностью 95% — это человек в костюме. Так и с “нашумевшими” скрининговыми тестами.
Что там с CA-62?
Здесь начинается самое интересное. Онкомаркер CA‑62 заявляет специфичность 95–96%, но внезапно демонстрирует 89–94% чувствительности на ранних стадиях, особенно для эпителиальных опухолей. Уровень почти фантастический — но давайте не будем терять критический настрой.
Если взять стандартную популяцию, то положительный результат по CA-62 даст шанс реального рака примерно 16% (PPV при 1% распространённости большинства из 1,1% частоты раков). А вот если провести повторное исследование и опять получить “+”, вероятность подпрыгнет до 30–50% — уже не анекдот, а серьезный сигнал, требующий подтверждения другими методами.
В итоге, для ранних форм (там, где обычные тесты пасуют), CA-62 даёт чуть ли не единственное окно возможностей. Но даже тут — без второго шага, без перепроверки, мы опять возвращаемся к динозавру из парка развлечений.
Выводы, в которые не все захотят поверить
100% раннего скрининга не будет. Никогда. Причина — не в недоработанных тестах, а в самой статистике: редкость события сильнее любой “точности”. CA-62 — реальный шаг вперед (по крайней мере, на сегодня лучшего инструмента для массового скрининга нет), но даже он не отменяет необходимости думать головой и перепроверять результаты.
Байесова логика — это суровая правда против wishful thinking. Если забыть про неё — скрининг легко превращается в игру “угадай, кто в костюме динозавра”.
Слабые места есть всегда: данные по PPV/NPV разнятся от страны к стране, реальная распространённость и “эффект здоровых добровольцев” часто занижают риски, и тем не менее порядок цифр сохраняется.
P.S. Всегда лучше тестировать гипотезы, а не людей. Динозавров, кстати, тоже чаще встречаешь в рекламе, чем в реальной жизни.
Меня всегда восхищает детская вера в чудо, но ещё больше — взрослый оптимизм в вопросах ранней диагностики рака. Сколько раз я слышал: «Скоро онкомаркеры и ИИ на КТ поймают 100% раннего бессимптомного рака!». Тут невольно вспоминаешь анекдот про динозавра на улице: если вы видите его из окна, скорее всего, это ростовая кукла, а не сенсация века.
И вот почему: давайте посчитаем по-байесовски, а не по интуиции. Вероятность, что у совершенно здорового взрослого старше 45 лет действительно есть рак, — это примерно 1,1% по всем видам или даже 0,005–0,1% по отдельным локализациям (колоректальный, легкое и т.д.). Иными словами, в толпе из 10 000 проверяемых людей мы с трудом найдем десяток настоящих больных индивидуальным раком с частотой 0,1%.
Теперь представим: у нас в руках суперсовременный тест с заявленной специфичностью 99,6% и (для фантазии) чувствительностью 20%. Как это выглядит в цифрах?
В 10 000 тестируемых — 10 реальных больных индивидуальным раком.
Тест определяет 2 настоящих случая (20% чувствительность).
Ложноположительных (здоровых, получивших тревожный результат) — 40 человек (при специфичности 99,6%).
Перевожу: на одного действительно больного у нас приходится двадцать (!) испуганных здоровых, попавших под каток скрининга. Байес тут, как строгий бухгалтер, всегда укажет на холодную математику: вероятность реально иметь рак при положительном тесте (PPV) — вовсе не 99%, а от силы 10%. В зависимости от того, какой именно тест, на какой рак и как часто повторять.
То есть если вам показалось, что на улице динозавр, с вероятностью 95% — это человек в костюме. Так и с “нашумевшими” скрининговыми тестами.
Что там с CA-62?
Здесь начинается самое интересное. Онкомаркер CA‑62 заявляет специфичность 95–96%, но внезапно демонстрирует 89–94% чувствительности на ранних стадиях, особенно для эпителиальных опухолей. Уровень почти фантастический — но давайте не будем терять критический настрой.
Если взять стандартную популяцию, то положительный результат по CA-62 даст шанс реального рака примерно 16% (PPV при 1% распространённости большинства из 1,1% частоты раков). А вот если провести повторное исследование и опять получить “+”, вероятность подпрыгнет до 30–50% — уже не анекдот, а серьезный сигнал, требующий подтверждения другими методами.
В итоге, для ранних форм (там, где обычные тесты пасуют), CA-62 даёт чуть ли не единственное окно возможностей. Но даже тут — без второго шага, без перепроверки, мы опять возвращаемся к динозавру из парка развлечений.
Выводы, в которые не все захотят поверить
100% раннего скрининга не будет. Никогда. Причина — не в недоработанных тестах, а в самой статистике: редкость события сильнее любой “точности”. CA-62 — реальный шаг вперед (по крайней мере, на сегодня лучшего инструмента для массового скрининга нет), но даже он не отменяет необходимости думать головой и перепроверять результаты.
Байесова логика — это суровая правда против wishful thinking. Если забыть про неё — скрининг легко превращается в игру “угадай, кто в костюме динозавра”.
Слабые места есть всегда: данные по PPV/NPV разнятся от страны к стране, реальная распространённость и “эффект здоровых добровольцев” часто занижают риски, и тем не менее порядок цифр сохраняется.
P.S. Всегда лучше тестировать гипотезы, а не людей. Динозавров, кстати, тоже чаще встречаешь в рекламе, чем в реальной жизни.
🔥9👍4
Онковакцины — где настоящая революция, а где ещё надежда? И почему всё упирается в раннюю диагностику
Последний год был рекордным по количеству новостей об онкоиммунологии и вакцинах от рака.
В России сразу несколько сильнейших команд заявили о своих достижениях:
Институт Гамалеи разрабатывает неоантигенные онковакцины, основанные на мРНК и аденовирусных векторах — это технологии уровня знаменитого «Спутника», теперь уже против рака.
В России сразу несколько сильнейших команд заявили о своих достижениях:
Институт Гамалеи разрабатывает неоантигенные онковакцины, основанные на мРНК и аденовирусных векторах — это технологии уровня знаменитого «Спутника», теперь уже против рака.
ФМБА России заявило о скором внедрении персонализированной онковакцины с прицелом на аденокарциному желудка и другие солидные опухоли.
Минздрав запускает клинические исследования онколитической вакцины «Энтеромикс», способной атаковать смертельно опасные карциномы лёгкого и желудка.
Звучит революционно? Несомненно. Но здесь есть один важнейший нюанс, который легко упустить за громкими заголовками:
Все эти новейшие технологии онкоиммунологии — вакцины, вирусы, CAR-T, антитела — эффективны только тогда, когда болезнь выявлена на самых ранних стадиях, ещё до появления симптомов.
Почему именно на ранних стадиях?
Дело в механизме действия иммунной терапии: она учит иммунитет атаковать опухоль, но для этого сама опухоль должна быть небольшой и иммунная система ещё должна её видеть и распознавать. Если же рак уже широко распространился, даже самая гениальная вакцина бессильна: иммунитет не «замечает» опухолевые клетки, и драгоценное время оказывается упущенным.
Но здесь возникает большая проблема:
Как найти рак на такой ранней стадии, когда нет симптомов, а стандартные тесты (КТ, ПЭТ, классические онкомаркеры) не видят его вовсе?
Ответа всего два: случайность (а это крайне редкие находки) или специальные маркеры, реагирующие на самые первые изменения клеток.
Именно поэтому на первый план выходит новый класс тестов, таких как CA-62, которые реагируют не на уже сформировавшуюся опухоль, а на самое начало опухолевого роста, на клетки с признаками низкодифференцированности. Такие маркеры позволяют массово выявлять рак именно тогда, когда он идеально подходит для лечения любой из современных вакцин.
Именно ранняя диагностика превращает красивые обещания онкоиммунологии в реальные жизни спасённых людей.
Новость об онковакцинах — это новость о том, что мы уже близки к мощному оружию против рака. Но без точного и доступного скрининга вся эта сила будет работать вполсилы.
Вывод простой:
Лечение рака начинается не с вакцин и вирусов, а с диагностики.
Будущее онкологии зависит не только от учёных, создающих новые препараты, но и от технологий, которые позволят выявлять болезнь вовремя и массово.
Для нас в CA-62 это не просто красивый слоган — это задача, над которой мы работаем каждый день. Потому что чем больше ранних случаев выявлено, тем реальнее становятся все революционные технологии, которые сегодня обещают победить рак.
Как думаете, готовы ли мы к новой эре онкоиммунологии, если не научимся массово выявлять рак на самых ранних стадиях?
Давайте обсудим.
P.S. Любая онковакцина — это мощно, но только если знать, кому её давать и когда. И это всегда вопрос ранней диагностики.
Последний год был рекордным по количеству новостей об онкоиммунологии и вакцинах от рака.
В России сразу несколько сильнейших команд заявили о своих достижениях:
Институт Гамалеи разрабатывает неоантигенные онковакцины, основанные на мРНК и аденовирусных векторах — это технологии уровня знаменитого «Спутника», теперь уже против рака.
В России сразу несколько сильнейших команд заявили о своих достижениях:
Институт Гамалеи разрабатывает неоантигенные онковакцины, основанные на мРНК и аденовирусных векторах — это технологии уровня знаменитого «Спутника», теперь уже против рака.
ФМБА России заявило о скором внедрении персонализированной онковакцины с прицелом на аденокарциному желудка и другие солидные опухоли.
Минздрав запускает клинические исследования онколитической вакцины «Энтеромикс», способной атаковать смертельно опасные карциномы лёгкого и желудка.
Звучит революционно? Несомненно. Но здесь есть один важнейший нюанс, который легко упустить за громкими заголовками:
Все эти новейшие технологии онкоиммунологии — вакцины, вирусы, CAR-T, антитела — эффективны только тогда, когда болезнь выявлена на самых ранних стадиях, ещё до появления симптомов.
Почему именно на ранних стадиях?
Дело в механизме действия иммунной терапии: она учит иммунитет атаковать опухоль, но для этого сама опухоль должна быть небольшой и иммунная система ещё должна её видеть и распознавать. Если же рак уже широко распространился, даже самая гениальная вакцина бессильна: иммунитет не «замечает» опухолевые клетки, и драгоценное время оказывается упущенным.
Но здесь возникает большая проблема:
Как найти рак на такой ранней стадии, когда нет симптомов, а стандартные тесты (КТ, ПЭТ, классические онкомаркеры) не видят его вовсе?
Ответа всего два: случайность (а это крайне редкие находки) или специальные маркеры, реагирующие на самые первые изменения клеток.
Именно поэтому на первый план выходит новый класс тестов, таких как CA-62, которые реагируют не на уже сформировавшуюся опухоль, а на самое начало опухолевого роста, на клетки с признаками низкодифференцированности. Такие маркеры позволяют массово выявлять рак именно тогда, когда он идеально подходит для лечения любой из современных вакцин.
Именно ранняя диагностика превращает красивые обещания онкоиммунологии в реальные жизни спасённых людей.
Новость об онковакцинах — это новость о том, что мы уже близки к мощному оружию против рака. Но без точного и доступного скрининга вся эта сила будет работать вполсилы.
Вывод простой:
Лечение рака начинается не с вакцин и вирусов, а с диагностики.
Будущее онкологии зависит не только от учёных, создающих новые препараты, но и от технологий, которые позволят выявлять болезнь вовремя и массово.
Для нас в CA-62 это не просто красивый слоган — это задача, над которой мы работаем каждый день. Потому что чем больше ранних случаев выявлено, тем реальнее становятся все революционные технологии, которые сегодня обещают победить рак.
Как думаете, готовы ли мы к новой эре онкоиммунологии, если не научимся массово выявлять рак на самых ранних стадиях?
Давайте обсудим.
P.S. Любая онковакцина — это мощно, но только если знать, кому её давать и когда. И это всегда вопрос ранней диагностики.
👍18❤3👏1
37 лет диабета. Одна операция. Ни грамма иммуносупрессии. И большой вопрос к иммунитету.
Клетки-невидимки: революция без иммунодепрессантов и возможная лазейка для рака
В свежем NEJM — работа, которая может изменить подход к трансплантации. В Швеции и Норвегии впервые человеку с 37-летним стажем диабета пересадили чужие бета-клетки поджелудочной железы… без единой таблетки для подавления иммунитета.
Через 3 месяца клетки живы, работают, иммунитет их «не видит», осложнений почти нет.
🔬 Как это сделали
Учёные отредактировали донорские клетки с помощью CRISPR:
— убрали «паспорта» HLA, по которым иммунная система узнаёт чужое;
— добавили CD47 — белок с табличкой «Не трогать!» для макрофагов и NK-клеток.
Результат — трансплантат как в шапке-невидимке.
📉 Но это не излечение
Ввели всего ~7% от стандартного количества клеток, нужного для полной компенсации диабета. Пациент всё ещё на инсулине, а снижение HbA1c на 42% связано в основном с корректировкой терапии.
⚠️ Где особая осторожность
Иммунитет — наш главный «онколог». Если он не видит клетку, он не сможет вовремя заметить её перерождение.
А поджелудочная железа — орган, где рак один из самых агрессивных и смертоносных. CD47 — тот самый белок, которым часто пользуются и опухоли, чтобы скрыться от иммунного надзора.
💉 И ещё один момент
Клетки подсадили не в поджелудочную, а в мышцу предплечья. Это удобно для мониторинга, но остаётся риск: если «невидимые» клетки начнут злокачественно меняться, они могут покинуть место трансплантации и расселиться по телу.
🔍 Открытый вопрос
Учёные подтвердили, что трансплантат находится на месте, с помощью ПЭТ-МРТ и специфичного трассера для бета-клеток. Но наблюдение длилось всего 12 недель и фокусировалось на зоне инъекций. Полностью исключить миграцию клеток по организму пока нельзя.
🚀 Что дальше
Чтобы исключить такие риски, можно использовать биоматриксы — каркасы, которые удерживают клетки в заданной зоне, помогают их приживлению и позволяют легко мониторить трансплантат. В онкологии такой подход особенно важен: речь идёт о клетках, которые иммунитет не распознаёт и не сможет вовремя уничтожить, если они станут опасными.
💡 Почему важно для онкологии
Технология даёт шанс на клеточные и генные терапии без токсичной иммуносупрессии. Но в онкологии она должна идти в паре с жёстким контролем: онкомаркеры, молекулярный скрининг, визуализация — и, возможно, с физическим ограничением зоны, где эти клетки могут жить.
Будущее близко. Но оно любит, когда за ним внимательно следят.
Клетки-невидимки: революция без иммунодепрессантов и возможная лазейка для рака
В свежем NEJM — работа, которая может изменить подход к трансплантации. В Швеции и Норвегии впервые человеку с 37-летним стажем диабета пересадили чужие бета-клетки поджелудочной железы… без единой таблетки для подавления иммунитета.
Через 3 месяца клетки живы, работают, иммунитет их «не видит», осложнений почти нет.
🔬 Как это сделали
Учёные отредактировали донорские клетки с помощью CRISPR:
— убрали «паспорта» HLA, по которым иммунная система узнаёт чужое;
— добавили CD47 — белок с табличкой «Не трогать!» для макрофагов и NK-клеток.
Результат — трансплантат как в шапке-невидимке.
📉 Но это не излечение
Ввели всего ~7% от стандартного количества клеток, нужного для полной компенсации диабета. Пациент всё ещё на инсулине, а снижение HbA1c на 42% связано в основном с корректировкой терапии.
⚠️ Где особая осторожность
Иммунитет — наш главный «онколог». Если он не видит клетку, он не сможет вовремя заметить её перерождение.
А поджелудочная железа — орган, где рак один из самых агрессивных и смертоносных. CD47 — тот самый белок, которым часто пользуются и опухоли, чтобы скрыться от иммунного надзора.
💉 И ещё один момент
Клетки подсадили не в поджелудочную, а в мышцу предплечья. Это удобно для мониторинга, но остаётся риск: если «невидимые» клетки начнут злокачественно меняться, они могут покинуть место трансплантации и расселиться по телу.
🔍 Открытый вопрос
Учёные подтвердили, что трансплантат находится на месте, с помощью ПЭТ-МРТ и специфичного трассера для бета-клеток. Но наблюдение длилось всего 12 недель и фокусировалось на зоне инъекций. Полностью исключить миграцию клеток по организму пока нельзя.
🚀 Что дальше
Чтобы исключить такие риски, можно использовать биоматриксы — каркасы, которые удерживают клетки в заданной зоне, помогают их приживлению и позволяют легко мониторить трансплантат. В онкологии такой подход особенно важен: речь идёт о клетках, которые иммунитет не распознаёт и не сможет вовремя уничтожить, если они станут опасными.
💡 Почему важно для онкологии
Технология даёт шанс на клеточные и генные терапии без токсичной иммуносупрессии. Но в онкологии она должна идти в паре с жёстким контролем: онкомаркеры, молекулярный скрининг, визуализация — и, возможно, с физическим ограничением зоны, где эти клетки могут жить.
Будущее близко. Но оно любит, когда за ним внимательно следят.
❤3