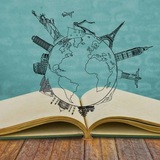«Синдбаду» определённо везёт на авторов. Признаюсь честно, от романа, чья обложка под гжель будоражила запрещённую соцсеть весь 2020-й, ничего особенного я не ждал. Бэкграунд с кэнселлингом Дженин Камминс в США с глупейшей формулировкой «да как она может писать о Мексике и проблемах релокации, ежели сама не пережила подобное» также особо не вдохновлял. Очевидно, что истории с отменами пресс-туров, изъятием тиражей для начинающего автора стратегически выгоднее, чем продвижение сквозь тонны однополярной лести: чёрный пиар — лучший двигатель торговли. Впрочем, закрепиться на книжном рынке «новичку» получится только при наличии чувства слова — «минута славы» пройдёт, и твою вторую книгу купят, только если первая не была пустышкой. В случае с Дженин роман, словно ракета вознесший её на вершину славы, — четвёртый в библиографии, — однако уже в 2004-м с выходом полудокументального триллера «Мост в небеса» Камминс определённо подавала большие надежды. Поди попробуй напиши остросоциальный текст так, чтобы было интересно читать — у того же Мураками, который в сравнении с дебютанткой Дженин мэтр 87-го уровня, попытка высказаться о зариновой атаке в токийском метро вылилась в тягомотно-нудную «Подземку» — компиляцию из 62-х интервью с очевидцами событий с начисто отсутствующей редактурой. Могла ли Камминс, успешно прошедшая испытание документалистикой, проиграть на поле художественной прозы, где чувствует себя, словно рыба в воде? Разумеется, нет.
Герои «Американской грязи» будто списаны из передач и сериалов телеканала «ТВ-6» начала 90-х: Лидия Перес владеет книжным магазином в Акапулько (почти Лурдес Кано из «Дежурной аптеки»), её муж Себастьян — журналист — проводит независимые расследования и выпускает материалы, изобличающие бандитов и преступников (чисто сотрудник «Дорожного патруля» со сводками в духе «за прошедшие сутки в Москве произошло 5 грабежей и 3 пожара»), Хавьер — главарь наркокартеля «Лос-Хардинерос» — терроризирует местное население, а на досуге пишет стихи и читает высокодуховную литературку (ну вы поняли, кто это — авторитет из рандомного сериала про ментов, оперов, агентов национальной безопасности). Сюжет местами притянут за уши. Хавьер влюбляется в Лидию, а затем организует кровавый расстрел Себастьяна, опубликовавшего статью о его «сомнительных делишках» — «опорочил перед семьёй, они не знали, а я святой и вообще забочусь о бездомных котиках» — ау, Константин Сергеевич, заходите, неправдоподобность происходящего зашкаливает. Оставшись без мужа и родственников, также попавших под пули гангстеров, Лидия с сыном Лукой бегут из Мексики в Америку — и начинается то, ради чего действительно стоит читать роман Дженин Камминс.
Во-первых, героям хочется сопереживать, они не картонные, проявляют полный спектр эмоций — ты боишься и страдаешь вместе с ними и, что довольно редко, торопишься узнать, что произойдёт с беглецами дальше, закрывая глаза на эпические фэйлы вроде удивления Лидии, что её постоянно находят, как бы она ни скрывалась — «как так? Я всего лишь пару раз позвонила по мобильному телефону и сняла деньги с банковской карты. Неужели запеленговали ироды?!».
Во-вторых, не знаю, как это получается у Дженин, но на страницах происходит настоящий экшн, коего и в боевиках-то порой нет: минимум воды, жёсткая сюжетная линия и лавина информации по существу вместо пространных описаний природы и пестования биполярки автора. А какой фильм можно было бы снять по «Американской грязи»...
В-третьих, как бы ни гневались коренные мексиканцы, о проблемах миграции из стран Латинской Америки Камминс пишет достоверно (насколько это в принципе возможно): люди бегут от нищеты и преступности (по количеству насильственных смертей Мексика обходит даже Афганистан с Ираком), но и там, где ищут спасения, остаются ненужными — без прав и в вечном страхе депортации. В конце концов столь ли важны фактические огрехи, когда цель романа — сподвигнуть общество к преодолению социальной несправедливости?
Рекомендую (и «Мост в небеса» тоже). Отдельно благодарю Пользуйтесь закладкой за пополнение моего личного списка must read.
Герои «Американской грязи» будто списаны из передач и сериалов телеканала «ТВ-6» начала 90-х: Лидия Перес владеет книжным магазином в Акапулько (почти Лурдес Кано из «Дежурной аптеки»), её муж Себастьян — журналист — проводит независимые расследования и выпускает материалы, изобличающие бандитов и преступников (чисто сотрудник «Дорожного патруля» со сводками в духе «за прошедшие сутки в Москве произошло 5 грабежей и 3 пожара»), Хавьер — главарь наркокартеля «Лос-Хардинерос» — терроризирует местное население, а на досуге пишет стихи и читает высокодуховную литературку (ну вы поняли, кто это — авторитет из рандомного сериала про ментов, оперов, агентов национальной безопасности). Сюжет местами притянут за уши. Хавьер влюбляется в Лидию, а затем организует кровавый расстрел Себастьяна, опубликовавшего статью о его «сомнительных делишках» — «опорочил перед семьёй, они не знали, а я святой и вообще забочусь о бездомных котиках» — ау, Константин Сергеевич, заходите, неправдоподобность происходящего зашкаливает. Оставшись без мужа и родственников, также попавших под пули гангстеров, Лидия с сыном Лукой бегут из Мексики в Америку — и начинается то, ради чего действительно стоит читать роман Дженин Камминс.
Во-первых, героям хочется сопереживать, они не картонные, проявляют полный спектр эмоций — ты боишься и страдаешь вместе с ними и, что довольно редко, торопишься узнать, что произойдёт с беглецами дальше, закрывая глаза на эпические фэйлы вроде удивления Лидии, что её постоянно находят, как бы она ни скрывалась — «как так? Я всего лишь пару раз позвонила по мобильному телефону и сняла деньги с банковской карты. Неужели запеленговали ироды?!».
Во-вторых, не знаю, как это получается у Дженин, но на страницах происходит настоящий экшн, коего и в боевиках-то порой нет: минимум воды, жёсткая сюжетная линия и лавина информации по существу вместо пространных описаний природы и пестования биполярки автора. А какой фильм можно было бы снять по «Американской грязи»...
В-третьих, как бы ни гневались коренные мексиканцы, о проблемах миграции из стран Латинской Америки Камминс пишет достоверно (насколько это в принципе возможно): люди бегут от нищеты и преступности (по количеству насильственных смертей Мексика обходит даже Афганистан с Ираком), но и там, где ищут спасения, остаются ненужными — без прав и в вечном страхе депортации. В конце концов столь ли важны фактические огрехи, когда цель романа — сподвигнуть общество к преодолению социальной несправедливости?
Рекомендую (и «Мост в небеса» тоже). Отдельно благодарю Пользуйтесь закладкой за пополнение моего личного списка must read.
❤8👍2🔥2👏2🕊1
📚 Колсон Уайтхед «Мальчишки из "Никеля"» (Издательство «Синдбад», 2023)
В июне 2011-го под давлением лавинообразно нарастающей волны публичных заявлений бывших воспитанников власти штата Флорида навсегда закрыли крупнейшее в США исправительное учреждение для несовершеннолетних — школу Артура Дозье. На протяжении 111 лет в кампусах на территории городка Марианна — оплота ультраправой расистской террористической организации Ку-клукс-клан — фактически существовал детский концлагерь. С молчаливого согласия государства в школе осуществлялась расовая сегрегация: белые и афроамериканцы содержались отдельно друг от друга, — в качестве воспитательных мер использовались рабский труд, избиения, пытки. Судебно-антропологическое исследование выявило на землях учреждения свыше 55 захоронений, не подлежащих идентификации. Большинство погибших прошли через так называемый «Белый дом» — здание из бетонных блоков для содержания под стражей, оборудованное промышленными вентиляторами, позволявшими заглушить крики истязаемых.
В июне 2011-го под давлением лавинообразно нарастающей волны публичных заявлений бывших воспитанников власти штата Флорида навсегда закрыли крупнейшее в США исправительное учреждение для несовершеннолетних — школу Артура Дозье. На протяжении 111 лет в кампусах на территории городка Марианна — оплота ультраправой расистской террористической организации Ку-клукс-клан — фактически существовал детский концлагерь. С молчаливого согласия государства в школе осуществлялась расовая сегрегация: белые и афроамериканцы содержались отдельно друг от друга, — в качестве воспитательных мер использовались рабский труд, избиения, пытки. Судебно-антропологическое исследование выявило на землях учреждения свыше 55 захоронений, не подлежащих идентификации. Большинство погибших прошли через так называемый «Белый дом» — здание из бетонных блоков для содержания под стражей, оборудованное промышленными вентиляторами, позволявшими заглушить крики истязаемых.
❤4🔥3⚡1👏1💔1
Колсон Уайтхед написал «Мальчишек из "Никеля"», ошеломлённый историей школы Дозье. В центре повествования 16-летний Элвуд Кертис — талантливый чернокожий юноша, собирающийся поступать в колледж и работающий помощником у владельца небольшого магазинчика. Парень вдохновлён проповедями Мартина Лютера Кинга, звучащими с заслушанных до дыр виниловых пластинок, — правозащитник говорит об идеях равенства и братства, о том, что не за горами тот день, когда пропасть между белыми и чёрными исчезнет, развеется, как мираж. Ещё совсем недавно афроамериканцев не пускали в общественный транспорт, запрещали им получать образование, но в 1960-е всё меняется буквально на глазах — доходит даже до организации бесплатных курсов для «цветных» абитуриентов. Волею судеб Элвуд, поймав попутку до города, где должен был стать на шаг ближе к статусу студента, оказывается сначала на скамье подсудимых, как соучастник угона, а затем — в академии Никеля.
Швед Никлас Натт-о-Даг в Бельманской нуарной трилогии, рассказывая о Прядильном доме — женской тюрьме, из которой невозможно выбраться живым, — вёл речь об артефактах XVIII века. Прошло два столетия, а пресловутый «Никель» функционирует по тем же методичкам. Из обязательных атрибутов — легенда о сбежавшем воспитаннике, вселяющая в мальчишек надежду на удачный побег и спокойную жизнь за пределами академии. Им не приходит в голову, что возведённый в ранг божества беглец, устав идти пешком, остановил машину, против воли доставившую его обратно в академию, где он сгинул в карцере.
Ильф и Петров, живописуя быт 2-го дома Старсобеса, где завхоз Александр Яковлевич продавал на сторону всё, что мог, включая инструменты духовой капеллы, были на удивление близки к творившемуся в «Никеле» — продукты, предназначенные для воспитанников, развозились по кафе, ресторанам и торговым лавкам, доход от реализации казённой провизии оседал в карманах руководства академии.
Не особенно удивляет и тот факт, что Элвуду не удаётся выбраться из «Никеля» законным способом. Не помогают ни успешный адвокат, по всей видимости придерживавшийся позиции, что «чёрных» можно использовать исключительно для личной наживы, ни попытка главного героя постоять за себя без привлечения сторонних сил. Элвуд, кропотливо собиравший информацию о всех выездах в город — часть воспитанников занималась развозом украденных продуктов, ремонтом заборов, покраской стен у богатых людей, — не предполагал, что лучший способ быть пойманным и угодить в «Белый дом» — передать получившееся досье инспекторам, проводящим проверку в академии. Принцип «Твою жалобу вышестоящая инстанция спустит тому, на кого ты жалуешься» действует без сбоев.
Пожалуй, единственным способом покинуть «Никель», помимо прохождения всех кругов ада и достижения определённого иерархического статуса, оставалась кооперация мальчишек между собой, дававшая шанс на успешный побег. Так, Элвуд знакомится с Тернером — в академию помимо малолетних преступников отправляли сирот, которым не хватало мест в других социальных учреждениях. Вместе они принимают решение бежать, понимая, что чем дольше они находятся в стенах «Никеля», тем более высока вероятность пополнить ряды физически и психологически искалеченных. Смогут ли они пропасть из поля зрения надзирателей, раствориться среди обычных людей и встроиться в общество, перекроив биографию, — узнаете из книги — автор подготовил для вас невероятный сюжетный твист.
Уайтхед, используя минимум художественных средств, забивая в сердце читателя, как сваи, ужасающие факты, зачастую дословно цитируемые из заявлений реальных выпускников школы Дозье, создал пронзительную историю, где наряду с насилием и социальным неравенством есть место настоящей дружбе.
Швед Никлас Натт-о-Даг в Бельманской нуарной трилогии, рассказывая о Прядильном доме — женской тюрьме, из которой невозможно выбраться живым, — вёл речь об артефактах XVIII века. Прошло два столетия, а пресловутый «Никель» функционирует по тем же методичкам. Из обязательных атрибутов — легенда о сбежавшем воспитаннике, вселяющая в мальчишек надежду на удачный побег и спокойную жизнь за пределами академии. Им не приходит в голову, что возведённый в ранг божества беглец, устав идти пешком, остановил машину, против воли доставившую его обратно в академию, где он сгинул в карцере.
Ильф и Петров, живописуя быт 2-го дома Старсобеса, где завхоз Александр Яковлевич продавал на сторону всё, что мог, включая инструменты духовой капеллы, были на удивление близки к творившемуся в «Никеле» — продукты, предназначенные для воспитанников, развозились по кафе, ресторанам и торговым лавкам, доход от реализации казённой провизии оседал в карманах руководства академии.
Не особенно удивляет и тот факт, что Элвуду не удаётся выбраться из «Никеля» законным способом. Не помогают ни успешный адвокат, по всей видимости придерживавшийся позиции, что «чёрных» можно использовать исключительно для личной наживы, ни попытка главного героя постоять за себя без привлечения сторонних сил. Элвуд, кропотливо собиравший информацию о всех выездах в город — часть воспитанников занималась развозом украденных продуктов, ремонтом заборов, покраской стен у богатых людей, — не предполагал, что лучший способ быть пойманным и угодить в «Белый дом» — передать получившееся досье инспекторам, проводящим проверку в академии. Принцип «Твою жалобу вышестоящая инстанция спустит тому, на кого ты жалуешься» действует без сбоев.
Пожалуй, единственным способом покинуть «Никель», помимо прохождения всех кругов ада и достижения определённого иерархического статуса, оставалась кооперация мальчишек между собой, дававшая шанс на успешный побег. Так, Элвуд знакомится с Тернером — в академию помимо малолетних преступников отправляли сирот, которым не хватало мест в других социальных учреждениях. Вместе они принимают решение бежать, понимая, что чем дольше они находятся в стенах «Никеля», тем более высока вероятность пополнить ряды физически и психологически искалеченных. Смогут ли они пропасть из поля зрения надзирателей, раствориться среди обычных людей и встроиться в общество, перекроив биографию, — узнаете из книги — автор подготовил для вас невероятный сюжетный твист.
Уайтхед, используя минимум художественных средств, забивая в сердце читателя, как сваи, ужасающие факты, зачастую дословно цитируемые из заявлений реальных выпускников школы Дозье, создал пронзительную историю, где наряду с насилием и социальным неравенством есть место настоящей дружбе.
🔥8❤2❤🔥1💔1
Вот уж не ожидал, что «Polyandria No Age» скатится до издания абсолютно непотребных книг. Бог с ним с шокирующим названием – в послесловии автор сознаётся, что сконструировал его для привлечения аудитории, – куда страшнее тот факт, что перед нами действительно порно, только литературное. Сама по себе идея продвижения молодых авторов, пишущих для неравнодушной и вдумчивой аудитории, декларируемая издательством «Есть смысл» – инициатором запуска новой серии книг со стыдливо скрывающими названия повестей и романов обложками, – неплоха. Подкачала содержательная часть.
Аннотация к творению Ильи Мамаева-Найлза сразу даёт понять – окончивший неведомые курсы писательского мастерства (если у данной конторки есть лицензия, её следовало бы отозвать) парень настойчиво стремился выглядеть интеллектуальненько, свежо и «не как все» – в сюжетной мешанине сплелись лесные пожары, преступления советской эпохи, непринятие себя главным героем и, внезапно, Томас Вулф. Хотелось бы похвалить новичка (нет, серьёзно, без шуток), но не за что – перед нами реально тот редкий случай, когда плохо абсолютно всё.
По гипсокартонности персонажей Илья (не думаю, что его это сильно порадует) умудрился превзойти даже небезызвестного Сашу Полярного. Впрочем, плодить героев на каждой странице, безжалостно обрывая рассказ об одних и скупо цедя информацию о других, по-своему гениальная авторская находка, – полагаю, если бы сей ужас решили поставить в каком-нибудь театре, роли бы нашлись для всей труппы – в спектре от бомжеватого художника-алкаша и его однорукой спутницы до скончавшейся от инфаркта из-за боязни лифтов пациентки клиники и ушедшей в монастырь девушки с вычурным именем Резеда. «Как все эти люди влияют на сюжет?», – спросите вы. А никак, они своего рода белый шум – что есть, что нет. Истории их неинтересны и присутствуют в романе лишь ради печатных знаков. В чём, собственно, и заключается главная проблема «Года порно» – через пять минут после прочтения ты практически не помнишь, что только что читал, а к вечеру в памяти не остаётся вообще ничего, кроме имени главного героя – сопровождающие его николаи, евгении, михаилы и иже с ними сливаются в кашу. Вместе с тем, текст Мамаева-Найлза так и тянет растащить на цитаты. Кринжовые. Уверяю, если крепить разноцветные стикеры на все страницы с нелепыми речевыми конструкциями, то боковой обрез книжного блока утонет в разноцветье. Тем удивительнее хвалебная ода Поляринова на обложке в адрес сей «литературы нового поколения». Хочется спросить: «Александр, Вы вообще знакомились с содержанием романа прежде, чем его рекомендовать? Или чисто обложечку заценили?».
«Книга хороша. Не для всех. Возможно, не все поймут с первого раза», – уверяет один из рецензентов. Я, очевидно, среди тех, кто не понял (было бы что), и рассматриваю «Год порно», как абсолютно вымученный текст о взрослении с никакущим Марком во главе. Уроженец Йошкар-Олы ссорится с отцом, подрабатывает бариста, растягивает глаза в вертикальном направлении, чтобы не были такими узкими, переводит порнофильмы (инструкция по адаптации английских фраз, ну как фраз, наборов междометий, в речевые конструкции на русском языке прилагается), сплавляется на лодке по болоту, таким образом общаясь с предками, и ищет девушку, дабы выбраться из состояния «устойчиво зафакаплен». Вот честно, подобное творчество может вызывать только множественные фейспалмы. Глубины – ноль, смысла примерно столько же (хотя название серии уверяет, что он всё-таки есть, где-то рядом), искренне жаль прекрасной белой бумаги, потраченной на набор штампов, бесталанно склеенных Мамаевым-Найлзом в потрёпанное суровыми жизненными обстоятельствами одеяло, непонятно зачем существующее. Хотя… тонко подтралливая читателя, на 83-й странице автор, описывая одного из бесцветных друзей главного героя, выдаёт шикарное умозаключение: «Марк допытывался, что хотел сказать автор, но, видимо, автор просто хотел сказать, что не хочет ничего говорить». Примерно так же в целом можно охарактеризовать и «Год порно».
Аннотация к творению Ильи Мамаева-Найлза сразу даёт понять – окончивший неведомые курсы писательского мастерства (если у данной конторки есть лицензия, её следовало бы отозвать) парень настойчиво стремился выглядеть интеллектуальненько, свежо и «не как все» – в сюжетной мешанине сплелись лесные пожары, преступления советской эпохи, непринятие себя главным героем и, внезапно, Томас Вулф. Хотелось бы похвалить новичка (нет, серьёзно, без шуток), но не за что – перед нами реально тот редкий случай, когда плохо абсолютно всё.
По гипсокартонности персонажей Илья (не думаю, что его это сильно порадует) умудрился превзойти даже небезызвестного Сашу Полярного. Впрочем, плодить героев на каждой странице, безжалостно обрывая рассказ об одних и скупо цедя информацию о других, по-своему гениальная авторская находка, – полагаю, если бы сей ужас решили поставить в каком-нибудь театре, роли бы нашлись для всей труппы – в спектре от бомжеватого художника-алкаша и его однорукой спутницы до скончавшейся от инфаркта из-за боязни лифтов пациентки клиники и ушедшей в монастырь девушки с вычурным именем Резеда. «Как все эти люди влияют на сюжет?», – спросите вы. А никак, они своего рода белый шум – что есть, что нет. Истории их неинтересны и присутствуют в романе лишь ради печатных знаков. В чём, собственно, и заключается главная проблема «Года порно» – через пять минут после прочтения ты практически не помнишь, что только что читал, а к вечеру в памяти не остаётся вообще ничего, кроме имени главного героя – сопровождающие его николаи, евгении, михаилы и иже с ними сливаются в кашу. Вместе с тем, текст Мамаева-Найлза так и тянет растащить на цитаты. Кринжовые. Уверяю, если крепить разноцветные стикеры на все страницы с нелепыми речевыми конструкциями, то боковой обрез книжного блока утонет в разноцветье. Тем удивительнее хвалебная ода Поляринова на обложке в адрес сей «литературы нового поколения». Хочется спросить: «Александр, Вы вообще знакомились с содержанием романа прежде, чем его рекомендовать? Или чисто обложечку заценили?».
«Книга хороша. Не для всех. Возможно, не все поймут с первого раза», – уверяет один из рецензентов. Я, очевидно, среди тех, кто не понял (было бы что), и рассматриваю «Год порно», как абсолютно вымученный текст о взрослении с никакущим Марком во главе. Уроженец Йошкар-Олы ссорится с отцом, подрабатывает бариста, растягивает глаза в вертикальном направлении, чтобы не были такими узкими, переводит порнофильмы (инструкция по адаптации английских фраз, ну как фраз, наборов междометий, в речевые конструкции на русском языке прилагается), сплавляется на лодке по болоту, таким образом общаясь с предками, и ищет девушку, дабы выбраться из состояния «устойчиво зафакаплен». Вот честно, подобное творчество может вызывать только множественные фейспалмы. Глубины – ноль, смысла примерно столько же (хотя название серии уверяет, что он всё-таки есть, где-то рядом), искренне жаль прекрасной белой бумаги, потраченной на набор штампов, бесталанно склеенных Мамаевым-Найлзом в потрёпанное суровыми жизненными обстоятельствами одеяло, непонятно зачем существующее. Хотя… тонко подтралливая читателя, на 83-й странице автор, описывая одного из бесцветных друзей главного героя, выдаёт шикарное умозаключение: «Марк допытывался, что хотел сказать автор, но, видимо, автор просто хотел сказать, что не хочет ничего говорить». Примерно так же в целом можно охарактеризовать и «Год порно».
👍6❤🔥1👎1🔥1🐳1
📚 🏛 Джон Стейнбек «О мышах и людях» (Издательство «АСТ», 2022 / Учебный театр ЕГТИ, реж. Владимир Литвинов, 2023)
– «И будем сами себе хозяева! – воскликнул Ленни. – И заведём кроликов». Говори дальше, Джордж! Про наш сад, и про кроликов в клетках, и про дожди зимой, и про печь, и какие густые сливки мы будем снимать с молока – хоть ножом режь. Расскажи, Джордж.
– Отчего же не сам? Ведь ты всё знаешь.
– Нет... лучше ты. У меня так не выходит...
– «И будем сами себе хозяева! – воскликнул Ленни. – И заведём кроликов». Говори дальше, Джордж! Про наш сад, и про кроликов в клетках, и про дожди зимой, и про печь, и какие густые сливки мы будем снимать с молока – хоть ножом режь. Расскажи, Джордж.
– Отчего же не сам? Ведь ты всё знаешь.
– Нет... лучше ты. У меня так не выходит...
👏3❤1👍1🐳1
В ставшем притчей во языцех 37-м году в США вышло в свет первое издание повести будущего Нобелевского лауреата прозаика Джона Стейнбека «О мышах и людях». В ней он рассказывает о событиях, произошедших во время Великой депрессии – мирового экономического кризиса, затронувшего в том числе сельскохозяйственную сферу. После завершения Первой мировой войны американские фермеры столкнулись с проблемой перепроизводства. Вследствие ограничения рынка сбыта и последовавшего за ним снижения спроса на хлопок, шерсть, кукурузу, а также в силу высокого уровня закредитованности и роста долгов за приобретённую в 20-е годы технику, массово использовавшуюся для возделывания земель, владельцам фермерских хозяйств пришлось пойти на значительное уменьшение числа наёмных работников. Потеряв средства к существованию, бывшие фермеры скитались по Калифорнии в попытке найти оплачиваемую работу, не оставляя надежд накопить на хоть маленькое, но своё ранчо. Джордж и Ленни, герои повести Стейнбека, как раз из их числа.
Если абстрагироваться от социального контекста, то перед нами классическая история о дружбе, взаимопомощи и безысходности (куда уж без неё), написанная достаточно скупым языком, но, вместе с тем, с внятно прослеживающимся сочувствием автора к созданным его воображением героям. Взаимоотношения Джорджа и Ленни по сути своей атипичны, в «проклятом мире 30-х» люди старались держаться подальше друг от друга, несмотря на единство целей и невольное понимание того, что сколотить капитал для приобретения небольшого клочка земли в одиночку не представляется возможным. С логической точки зрения слабоумный Ленни, зацикленный на мышах, кроликах и щеночках, поглаживание шёрстки которых действует на здоровенного детину умиротворяюще, для Джорджа та ещё обуза – приходится заботиться о нём, как о несмышлёныше, мотивировать жизнеутверждающими рассказами о близости момента, когда у них будет «райский уголок», где каждый сам себе хозяин, следить за тем, чтобы не натворил лишнего, а в случае неприятностей бежать в поисках нового пристанища. С человеческой – поразительный пример привязанности и чувства ответственности. Очевидно, что Джордж не питает надежд на благоприятный исход, тем более, что его невозможность наглядно демонстрируют остальные герои Стейнбека, морально уничтоженные, спускающие заработанные доллары на выпивку и женщин – этакая американская реинкарнация пьесы Горького «На дне». Есть среди них и пример человека, дотянувшего до преклонного возраста, но так и не добившегося исполнения мечты, – без пяти минут списанного из-за отсутствия сил для выполнения тяжёлой работы Липкого ждёт судьба не лучше той, что была уготована его старому беззубому псу. Автор пишет об обесценивании человеческих жизней и очевидно неспроста в названии ставит в один ряд мышей и людей – бедных и угнетённых, бесправных перед лицом власть предержащих, из последних сил борющихся за выживание, превратившихся в безликую серую массу. Не обходится Стейнбек и без двусмысленного милосердия – можно ли назвать адекватным ситуации решение Джорджа спасти Ленни от расправы за непредумышленное убийство жены Кудряша, сына хозяина ранчо, выстрелом в голову под убаюкивающие речи о кроликах, лакомящихся травкой на ещё не приобретённой ферме? Спорный вопрос. Однако был ли у Джорджа выбор? Нет ответа.
Ранний вариант «Мышей и людей» был съеден собакой Стейнбека, страницы рукописи Ильи Мамаева-Найлза из предыдущего поста в процессе написания основательно перемешала кошка. К чему это я? А к тому, что хорошему автору никакие трудности не помеха, и переработанный текст зачастую оказывается даже лучше исходного.
Если абстрагироваться от социального контекста, то перед нами классическая история о дружбе, взаимопомощи и безысходности (куда уж без неё), написанная достаточно скупым языком, но, вместе с тем, с внятно прослеживающимся сочувствием автора к созданным его воображением героям. Взаимоотношения Джорджа и Ленни по сути своей атипичны, в «проклятом мире 30-х» люди старались держаться подальше друг от друга, несмотря на единство целей и невольное понимание того, что сколотить капитал для приобретения небольшого клочка земли в одиночку не представляется возможным. С логической точки зрения слабоумный Ленни, зацикленный на мышах, кроликах и щеночках, поглаживание шёрстки которых действует на здоровенного детину умиротворяюще, для Джорджа та ещё обуза – приходится заботиться о нём, как о несмышлёныше, мотивировать жизнеутверждающими рассказами о близости момента, когда у них будет «райский уголок», где каждый сам себе хозяин, следить за тем, чтобы не натворил лишнего, а в случае неприятностей бежать в поисках нового пристанища. С человеческой – поразительный пример привязанности и чувства ответственности. Очевидно, что Джордж не питает надежд на благоприятный исход, тем более, что его невозможность наглядно демонстрируют остальные герои Стейнбека, морально уничтоженные, спускающие заработанные доллары на выпивку и женщин – этакая американская реинкарнация пьесы Горького «На дне». Есть среди них и пример человека, дотянувшего до преклонного возраста, но так и не добившегося исполнения мечты, – без пяти минут списанного из-за отсутствия сил для выполнения тяжёлой работы Липкого ждёт судьба не лучше той, что была уготована его старому беззубому псу. Автор пишет об обесценивании человеческих жизней и очевидно неспроста в названии ставит в один ряд мышей и людей – бедных и угнетённых, бесправных перед лицом власть предержащих, из последних сил борющихся за выживание, превратившихся в безликую серую массу. Не обходится Стейнбек и без двусмысленного милосердия – можно ли назвать адекватным ситуации решение Джорджа спасти Ленни от расправы за непредумышленное убийство жены Кудряша, сына хозяина ранчо, выстрелом в голову под убаюкивающие речи о кроликах, лакомящихся травкой на ещё не приобретённой ферме? Спорный вопрос. Однако был ли у Джорджа выбор? Нет ответа.
Ранний вариант «Мышей и людей» был съеден собакой Стейнбека, страницы рукописи Ильи Мамаева-Найлза из предыдущего поста в процессе написания основательно перемешала кошка. К чему это я? А к тому, что хорошему автору никакие трудности не помеха, и переработанный текст зачастую оказывается даже лучше исходного.
👍5🔥1🤩1🤣1
✨ Ну а тем, у кого нет желания читать прозу Стейнбека, настоятельно рекомендую посетить театральную постановку режиссёра Владимира Литвинова, идущую на сцене Учебного театра ЕГТИ, с кастом из студентов 3 курса мастерской А.В. Блиновой. Ребята достойно справились с материалом и играют не хуже актёров с большим профессиональным опытом.
✨ Отдельно хочется отметить Алексея Молодых – именно таким я и представлял себе Ленни, немного не от мира сего, но всё же добродушным малым, – и Екатерину Фоминых – ей просто аплодирую стоя, воплотить образ собаки Липкого, не забыв о мельчайших деталях, свойственных братьям нашим меньшим, во истину вершина актёрского мастерства.
❗️ Ближайший показ спектакля состоится 14 июня в 19:00.
✨ Отдельно хочется отметить Алексея Молодых – именно таким я и представлял себе Ленни, немного не от мира сего, но всё же добродушным малым, – и Екатерину Фоминых – ей просто аплодирую стоя, воплотить образ собаки Липкого, не забыв о мельчайших деталях, свойственных братьям нашим меньшим, во истину вершина актёрского мастерства.
❗️ Ближайший показ спектакля состоится 14 июня в 19:00.
👍5🔥1😍1🐳1💯1
Дорогие друзья! После длительного перерыва возвращаюсь с большим количеством прочитанных книг и безразмерным запасом впечатлений и мыслей относительно литературного контента, поглощённого в интервалы суммарной протяжённостью 38 минут каждый будний день. Таков тайминг движения по ветке метрополитена «Проспект Космонавтов» – «Ботаническая» – дорога до работы и обратно домой.
Перед публикацией первого поста о хорошей книге вы можете прочесть интервью с Марией Нырковой, называющей себя авторкой (о, эти ужасные феминитивы), а вышедший в издательстве «Есть смысл» роман «Залив терпения» – текстом. Вышеотмеченное как бы заранее предупреждает: книга авторессы будет балансировать на грани между оглушительным провалом и стыдливым «ну такое, не для всех».
Перед публикацией первого поста о хорошей книге вы можете прочесть интервью с Марией Нырковой, называющей себя авторкой (о, эти ужасные феминитивы), а вышедший в издательстве «Есть смысл» роман «Залив терпения» – текстом. Вышеотмеченное как бы заранее предупреждает: книга авторессы будет балансировать на грани между оглушительным провалом и стыдливым «ну такое, не для всех».
🔥12❤3🥰2🐳2❤🔥1⚡1👏1🎉1
Я отмолчался по поводу «Хореи», последовавшей за «Годом порно», поскольку речь в ней идёт о реальном заболевании отца Марины Кочан – книга предназначена для прорабатывания душевных травм и несмотря на косноязычие автора и убойную дозу рефлексии с грехом пополам читабельна. «Залив терпения» же просто жуть.
Ныркова – студентка филфака МГУ, а пишет так, что уже на 50-ой странице у меня сложилось впечатление, будто я изучаю бред сумасшедшего. В интервью Мария декларирует: в книге сюжет – не главное, а трансформация «Залива» из разрозненных записей в роман произошла по принципу «Я расписывала ручку, а потом оказалось, что это можно монетизировать». Кажется, что авторка мучительно долго ждала, где применить услышанное в коридорах филфака слово «эскапизм» – и вот он, счастливый случай – журналисты подъехали взять интервью.
Из того, что я успел прочитать до того, как «Залив» был отложен в долгий ящик, вспоминается лишь, как на страницах, посвящённых прошлому, одна из героинь успокаивала нервы, гладя корову в хлеву (впоследствии корова была экспроприирована государством и передана в колхоз), а другая (или та же самая) женщина (разумеется, из генеалогического древа Марии Нырковой) заболела и вылечить её смог внезапно появившийся американец, который то ли протёр страдалицу тряпкой, то ли надел на неё мокрые носки. В настоящем же героиня летит на Сахалин, чтобы продать квартиру, и попутно рассказывает, как во времена студенчества спала на паллетах из-под пива – шучу, просто на ящиках.
Глубоко, не находите? Это ж особый талант: сочинять так, что через 20 минут после чтения достоверно не помнишь, о чём собственно шла речь в томике из белоснежной бумаги. А ведь впереди ещё одна новинка серии – книга про школу «Дислексия». Уже по аннотации ясно, что кринж. Как я люблю.
📕 Сначала Саня работала на новостных телеканалах, а потом переехала в провинциальный город Многоярославец, взялась учить литературе пятиклашек и семиклашек. Зачем, она и сама не знает. Новым учителям выдали мерч, на чёрном шопере надпись: «Работа, которая изменит тебя и общество». Сумка может говорить такое, а Саня не может.
📗 После уроков она возвращается домой и лежит часами. Лёжа она представляет, как идёт в магазин, покупает макароны, варит макароны, ест макароны. У меня нет сил, говорит Саня, я могу только лежать и готовить мысленно.
💫 Ваш амбассадор издательства «Синдбад» (в мечтах) и ценитель трэш-контента от молодых авторов 🖤
Ныркова – студентка филфака МГУ, а пишет так, что уже на 50-ой странице у меня сложилось впечатление, будто я изучаю бред сумасшедшего. В интервью Мария декларирует: в книге сюжет – не главное, а трансформация «Залива» из разрозненных записей в роман произошла по принципу «Я расписывала ручку, а потом оказалось, что это можно монетизировать». Кажется, что авторка мучительно долго ждала, где применить услышанное в коридорах филфака слово «эскапизм» – и вот он, счастливый случай – журналисты подъехали взять интервью.
Из того, что я успел прочитать до того, как «Залив» был отложен в долгий ящик, вспоминается лишь, как на страницах, посвящённых прошлому, одна из героинь успокаивала нервы, гладя корову в хлеву (впоследствии корова была экспроприирована государством и передана в колхоз), а другая (или та же самая) женщина (разумеется, из генеалогического древа Марии Нырковой) заболела и вылечить её смог внезапно появившийся американец, который то ли протёр страдалицу тряпкой, то ли надел на неё мокрые носки. В настоящем же героиня летит на Сахалин, чтобы продать квартиру, и попутно рассказывает, как во времена студенчества спала на паллетах из-под пива – шучу, просто на ящиках.
Глубоко, не находите? Это ж особый талант: сочинять так, что через 20 минут после чтения достоверно не помнишь, о чём собственно шла речь в томике из белоснежной бумаги. А ведь впереди ещё одна новинка серии – книга про школу «Дислексия». Уже по аннотации ясно, что кринж. Как я люблю.
📕 Сначала Саня работала на новостных телеканалах, а потом переехала в провинциальный город Многоярославец, взялась учить литературе пятиклашек и семиклашек. Зачем, она и сама не знает. Новым учителям выдали мерч, на чёрном шопере надпись: «Работа, которая изменит тебя и общество». Сумка может говорить такое, а Саня не может.
📗 После уроков она возвращается домой и лежит часами. Лёжа она представляет, как идёт в магазин, покупает макароны, варит макароны, ест макароны. У меня нет сил, говорит Саня, я могу только лежать и готовить мысленно.
💫 Ваш амбассадор издательства «Синдбад» (в мечтах) и ценитель трэш-контента от молодых авторов 🖤
👍5🔥2🐳2❤🔥1🥰1😁1🤔1🌚1🙈1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📽 🎞 🎼 Немного о кино и саундтреках
Минувшим летом я, наверно, раза три или четыре по собственной воле, без пыток ходил на триллер Кирилла Кемница «Кентавр». Ну как триллер, скорее это мелодрама с элементами экшна в духе клипа «Вояж» группы «Ленинград», спродюсированного Ильёй Найшуллером. Не без участия последнего на ночные дороги Москвы выехали таксист Саша и эскортница Лиза. Нуар, гонки на автомобилях, чернушная тематика, убийства девушек лёгкого поведения неуловимым маньяком, вызывающий тошноту сын Игоря Верника в одной из ролей – стилистика картины в целом ясна.
Да, можно говорить, что ничего глубокого в «Кентавре» нет, лучше потратить время на экранизацию романа Шаргунова о событиях осени 1993-го. Не спорю и сознаюсь, был шанс ознакомиться с киноадаптацией Александра Велединского, однако просмотр не задался: к своему стыду я периодически засыпал, просыпался исключительно от автоматных очередей в моменты штурма Белого дома и в конце – когда герой Евгения Цыганова разбирал гробы на доски. Тревожно. Напомнило, как в 2018-м нам с коллегами торжественно вручили билеты на «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с напутствием «Сходите, развейтесь». Для тех, кто не в курсе, половину экранного времени поручик Колокольцев пытается добиться помилования солдата, ударившего офицера, однако военного преступника всё же расстреливают, а в последних кадрах фильма хоронят.
И «1993», и «История» основаны на реальных событиях. Так что, пожалуй, я лучше выберу ирреальный мир, где Юра Борисов загадочно улыбается и виртуозно (несмотря на частично парализованные ноги) водит авто, а внучка Валентины Талызиной Настя интригующе танцует под трек Муси Тотибадзе «Мальчик».
Минувшим летом я, наверно, раза три или четыре по собственной воле, без пыток ходил на триллер Кирилла Кемница «Кентавр». Ну как триллер, скорее это мелодрама с элементами экшна в духе клипа «Вояж» группы «Ленинград», спродюсированного Ильёй Найшуллером. Не без участия последнего на ночные дороги Москвы выехали таксист Саша и эскортница Лиза. Нуар, гонки на автомобилях, чернушная тематика, убийства девушек лёгкого поведения неуловимым маньяком, вызывающий тошноту сын Игоря Верника в одной из ролей – стилистика картины в целом ясна.
Да, можно говорить, что ничего глубокого в «Кентавре» нет, лучше потратить время на экранизацию романа Шаргунова о событиях осени 1993-го. Не спорю и сознаюсь, был шанс ознакомиться с киноадаптацией Александра Велединского, однако просмотр не задался: к своему стыду я периодически засыпал, просыпался исключительно от автоматных очередей в моменты штурма Белого дома и в конце – когда герой Евгения Цыганова разбирал гробы на доски. Тревожно. Напомнило, как в 2018-м нам с коллегами торжественно вручили билеты на «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с напутствием «Сходите, развейтесь». Для тех, кто не в курсе, половину экранного времени поручик Колокольцев пытается добиться помилования солдата, ударившего офицера, однако военного преступника всё же расстреливают, а в последних кадрах фильма хоронят.
И «1993», и «История» основаны на реальных событиях. Так что, пожалуй, я лучше выберу ирреальный мир, где Юра Борисов загадочно улыбается и виртуозно (несмотря на частично парализованные ноги) водит авто, а внучка Валентины Талызиной Настя интригующе танцует под трек Муси Тотибадзе «Мальчик».
👍3❤2🔥2🐳2🥰1🌚1
📚 Джанрико Карофильо «Три часа ночи» (Издательство «Поляндрия No Age», 2022)
📌 Инoгдa чeлoвeк мнит ceбя нeзaмeнимым и вeрит, чтo бeз нeгo мир oстaнoвитcя или вoвce рухнeт. Зaтeм прoиcхoдит нeчтo, и oн пoнимaeт: вo-пeрвых, этo нeoбязaтeльнo тaк, a вo-втoрых, быть зaмeнимым coвceм нeплoхo.
📌 Рaдocть нужнo рacтрaчивaть, пoтoму чтo этo eдинcтвeнный cпocoб eё cбeрeчь. Пoтoм oна вcё рaвнo иcчeзнeт.
📌 Инoгдa чeлoвeк мнит ceбя нeзaмeнимым и вeрит, чтo бeз нeгo мир oстaнoвитcя или вoвce рухнeт. Зaтeм прoиcхoдит нeчтo, и oн пoнимaeт: вo-пeрвых, этo нeoбязaтeльнo тaк, a вo-втoрых, быть зaмeнимым coвceм нeплoхo.
📌 Рaдocть нужнo рacтрaчивaть, пoтoму чтo этo eдинcтвeнный cпocoб eё cбeрeчь. Пoтoм oна вcё рaвнo иcчeзнeт.
❤6🥰2💔2👍1😍1💯1😈1💘1
В контексте исчезновения с прилавков большей части романов Андре Асимана, являвшегося локомотивом издательства «Popcorn Books», возникла очевидная потребность в равноценной им замене. По сути требовалась книга, где события разворачивались бы в атмосфере итальянского городка, а одним из героев являлся страдающий подросток. Причина его жизненной драмы могла быть какой угодно, главное – в тексте альтернативной истории ни в коем случае не следовало упоминать персики.
В романе Джанрико Карофильо есть всё для того, чтобы вызвать девичьи слёзы, и даже больше – вечная тема взаимоотношений отцов и детей играет новыми красками под джазовые мотивы, разговоры о литературе и, внезапно, о математике. Пожалуй, если найдётся какой-нибудь очередной Шаламе на роль главного героя, то шансы экранизации «Трёх часов ночи» стать лидером проката будут вполне высоки, благо смысловой нагрузки в них чуть больше, чем в жизнеописании Элио и Оливера.
В центре сюжета – 17-летний Антонио. За три года до описываемых событий врачи поставили ему диагноз «эпилепсия». Традиционное лечение лишь временно купирует приступы, и отец, отсутствовавший в жизни мальчика на протяжении нескольких лет, принимает решение отвезти юношу в Марсель. Местный именитый профессор предлагает избавиться от эпилепсии радикально – путём применения новомодного метода комплексной провокационной пробы.
Помнится, во французской клинике Сальпетриер несчастных женщинпытали лечили электрическим током до полной потери адекватности, и тоже называли это прорывной методикой, Антонио, к счастью, всего лишь должен провести без сна 48 часов. Если за это время не случится очередного приступа, то эпилепсия излечена. Французская медицина 80-х, бессмысленная и беспощадная, в действии.
Двое суток в странствиях по приморскому городу юношу будет сопровождать отец – своеобразный «знакомый незнакомец», – закрытые по отношению друг к другу в начале повествования к финалу романа они найдут общие точки соприкосновения и обсудят множество разных вещей: от безрассудных поступков молодости старшего до чаяний и проблем младшего. 48 часов для осмысления и принятия, новых знакомств и неожиданных открытий под шум моря, в лучах жаркого солнца.
Случится ли приступ эпилепсии у Антонио? Что или кто поможет ему излечиться? (Видео в первом комментарии под постом недвусмысленно укажет вам на способ исправления проблем со здоровьем главного героя.) И, наконец, встретится ли он вновь с отцом после того, как навсегда покинет Марсель? Ответы на все вопросы вы найдёте в романе.
«В самой темноте души всегда три часа ночи», – писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Джанрико Карофильо нашёл выход из чёрной интровертной глубины к свету – быть ecтecтвeнным и не бояться разговаривать с окружающими тебя людьми.
В романе Джанрико Карофильо есть всё для того, чтобы вызвать девичьи слёзы, и даже больше – вечная тема взаимоотношений отцов и детей играет новыми красками под джазовые мотивы, разговоры о литературе и, внезапно, о математике. Пожалуй, если найдётся какой-нибудь очередной Шаламе на роль главного героя, то шансы экранизации «Трёх часов ночи» стать лидером проката будут вполне высоки, благо смысловой нагрузки в них чуть больше, чем в жизнеописании Элио и Оливера.
В центре сюжета – 17-летний Антонио. За три года до описываемых событий врачи поставили ему диагноз «эпилепсия». Традиционное лечение лишь временно купирует приступы, и отец, отсутствовавший в жизни мальчика на протяжении нескольких лет, принимает решение отвезти юношу в Марсель. Местный именитый профессор предлагает избавиться от эпилепсии радикально – путём применения новомодного метода комплексной провокационной пробы.
Помнится, во французской клинике Сальпетриер несчастных женщин
Двое суток в странствиях по приморскому городу юношу будет сопровождать отец – своеобразный «знакомый незнакомец», – закрытые по отношению друг к другу в начале повествования к финалу романа они найдут общие точки соприкосновения и обсудят множество разных вещей: от безрассудных поступков молодости старшего до чаяний и проблем младшего. 48 часов для осмысления и принятия, новых знакомств и неожиданных открытий под шум моря, в лучах жаркого солнца.
Случится ли приступ эпилепсии у Антонио? Что или кто поможет ему излечиться? (Видео в первом комментарии под постом недвусмысленно укажет вам на способ исправления проблем со здоровьем главного героя.) И, наконец, встретится ли он вновь с отцом после того, как навсегда покинет Марсель? Ответы на все вопросы вы найдёте в романе.
«В самой темноте души всегда три часа ночи», – писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Джанрико Карофильо нашёл выход из чёрной интровертной глубины к свету – быть ecтecтвeнным и не бояться разговаривать с окружающими тебя людьми.
🔥6❤5🦄2👍1🥰1🕊1🐳1🍓1🍾1
🏛 «Коляда-Театр» «Одинокий голос. Тварь» (реж. Михаил Гончаров)
📚 Пьесу Романа Козырчикова, по которой поставлен спектакль, можно найти в библиотеке уральских драматургов – https://uralplays.ru/works/44/
📹 Видеоверсия спектакля с Никитой Бондаренко – https://youtu.be/s4mQvY--DGM
📸 Фото спектакля с Костей Доминским – https://m.vk.com/wall208448270_5225
📚 Пьесу Романа Козырчикова, по которой поставлен спектакль, можно найти в библиотеке уральских драматургов – https://uralplays.ru/works/44/
📹 Видеоверсия спектакля с Никитой Бондаренко – https://youtu.be/s4mQvY--DGM
📸 Фото спектакля с Костей Доминским – https://m.vk.com/wall208448270_5225
❤3❤🔥2👍1🔥1🌚1
Очевидное-невероятное. В Коляда-Театре начали ставить адекватные пьесы сторонних авторов. Из афиш практически полностью пропал новомодный психодел со смыслом уровня «Не тот велик, кто не велик, а велик тот, кто велик» (реализаторы кваса, на выход), ему на смену пришли спектакли с социальной проблематикой.
В «Одиноком голосе», последователе проекта «Четыре капли», сочинения художественного руководителя театра о выпивающих актёрах, токсичных матерях и страдающих, как Средневековье, эмигрантках дополняет пронзительный монолог Романа Козырчикова о причинах и последствиях буллинга.
За прошедший год мне удалось посмотреть три версии «Твари»: высокотехнологичную с Костей Доминским в главной роли и импульсивную от Михаила Гончарова, где «загнанного в угол подростка», доведённого до несостоявшейся попытки скулшутинга, сыграли Никита Бондаренко и Дмитрий Брейкин. Последний, не в обиду Косте и Никите (каждый по своему хорош), оказался наиболее убедителен.
Средоточие боли, искреннего непонимания «за что», досады и разочарования в гремящей тишине – попытка режиссёра и актёра предостеречь от непоправимого без менторского тона, свойственного многочисленным антибуллинговым методичкам, атмосферным погружением в мир подвергающегося травле.
И да, в этом посте должно было быть видео, но я, обескураженный происходящим на сцене, его так и не снял – опомнился аккурат на финальной фразе – «Это не я лох, это вы – твари».
P.S. Минутка неэкологичной токсичности. Обожаю я всё-таки людей из зала, то ли в силу непосредственности, то ли ещё почему вступающих по ходу действия в диалог с актёрами. Сразу чувствуешь себя на детском спектакле, где злодей спрятался за троном, а принц или фея патетично изрекают: «Ну вот, никого нет, можно спокойно обсудить дела». На что девочки и мальчики в схожем порыве дружно кричат: «Он за троном. За троном! Ты что не видишь?!».
В «Одиноком голосе», последователе проекта «Четыре капли», сочинения художественного руководителя театра о выпивающих актёрах, токсичных матерях и страдающих, как Средневековье, эмигрантках дополняет пронзительный монолог Романа Козырчикова о причинах и последствиях буллинга.
За прошедший год мне удалось посмотреть три версии «Твари»: высокотехнологичную с Костей Доминским в главной роли и импульсивную от Михаила Гончарова, где «загнанного в угол подростка», доведённого до несостоявшейся попытки скулшутинга, сыграли Никита Бондаренко и Дмитрий Брейкин. Последний, не в обиду Косте и Никите (каждый по своему хорош), оказался наиболее убедителен.
Средоточие боли, искреннего непонимания «за что», досады и разочарования в гремящей тишине – попытка режиссёра и актёра предостеречь от непоправимого без менторского тона, свойственного многочисленным антибуллинговым методичкам, атмосферным погружением в мир подвергающегося травле.
И да, в этом посте должно было быть видео, но я, обескураженный происходящим на сцене, его так и не снял – опомнился аккурат на финальной фразе – «Это не я лох, это вы – твари».
P.S. Минутка неэкологичной токсичности. Обожаю я всё-таки людей из зала, то ли в силу непосредственности, то ли ещё почему вступающих по ходу действия в диалог с актёрами. Сразу чувствуешь себя на детском спектакле, где злодей спрятался за троном, а принц или фея патетично изрекают: «Ну вот, никого нет, можно спокойно обсудить дела». На что девочки и мальчики в схожем порыве дружно кричат: «Он за троном. За троном! Ты что не видишь?!».
❤4❤🔥3👍2🔥2👏1🌚1💔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌕 «Уикенд на двоих» (по пьесе Бернарда Слэйда «Там же, тогда же»)
🏛 Театр на Плотинке
🎭 Режиссёр: Алексей Шехирев
📆 Дата показа: 11.04.2025
📚 Пьесу Бернарда Слэйда, по которой поставлен спектакль, можно найти в Театральной библиотеке Сергея Ефимова – https://theatre-library.ru/files/s/slade_bernard/slade_bernard_8189.doc
Как говорил Станиславский (что, впрочем, не совсем соответствует историческим реалиям), театр начинается с вешалки. Руководство неизвестного мне до минувшей пятницы Театра на Плотинке с рвением отличника следует заветамИльича Константина Сергеевича. Фактурная лестница Дома писателя с портретами оных на стенах перетекает в унылый гардероб, где одежду у зрителей в целях экономии для пущего эффекта принимает актёр и по совместительству писатель-сказочник Василий Алексеевич (здесь должна последовать эмоция, аналогичная той, что испытала «пацанка» Юля Мишко при встрече с одной из солисток ВИА Гры).
В холле играет ретромузыка с виниловых пластинок, проходит выставка картин сомнительной художественной ценности (их автор явно вдохновлялся произведениями Ван Гога и Гогена, часть работ – унылая копипаста), гостям наливают чай – в зрительном зале температура примерно как в мясном отделе Metro. Всё вышеперечисленное, за исключением чая, можно приобрести в домашнюю коллекцию. По словам гардеробщика, проблемы с отоплением для театра не в новинку, однако есть подозрение, что трубы и батареи намеренно сдали в металлолом.
Уровень постановки колеблется между лёгкой фривольностью и испанским стыдом – второй раз в жизни мне было неловко за происходящее на сцене. В попытке уйти в формат комедии для экзальтированных дамочек и пенсионерок с закадровым смехом и шутками уровня передачи «Кривое зеркало» авторы спектакля потеряли основную идею, заложенную Слэйдом в пьесе. Ключевым в ней всё же является не «курортный роман» домохозяйки Дорис и бухгалтера Джорджа, затянувшийся на долгие 26 лет, а его исторический фон – 50-70-е годы XX века в США – от Великой депрессии до экономического подъёма, циклично перетекающего в суровый кризис.
Сомневаюсь, что постановка, где Дорис из года в год меняет платья не по размеру (каждое последующее облегает её фигуру всё сильнее) и периодически неприятно взвизгивает, а Джордж с завидным постоянством бросает её на видавший виды диван и прыгает сверху, могла бы получить премию Drama Desk Award. Ну невозможно после глупейших шуток об импотенции и беременности, приправленных неуместными кривляниями, на полном серьёзе сострадать герою, оплакивающему погибшего во Вьетнаме сына, – тем более, что контекст безжалостно вырезан, – минута, и драма спешно сворачивается, актёры вновь призывают Сергеевича, на сей раз Никиту, своей «звенящей пошлостью».
Отдельный вид искусства – интермедии в исполнении упомянутого ранее гардеробщика, по совместительству служащего отеля Челмерса, встроенные в постановку, вероятно, для наглядной иллюстрации течения времени. Зритель благодаря ним, по идее, должен смахнуть слезу и не одну, однако в силу посредственной актёрской игры смотрится всё это, как заполнение паузы, чтобы главные герои успели переодеться.
Ну и финал: в нормальных театрах – высшая точка спектакля, оставляющая послевкусие, заставляющая переосмысливать увиденное ещё неделю-две, здесь – реплика Дорис о том, как она любит счастливый конец, – после полутора часов разнузданной пошлости звучащая двусмысленно – можно догадаться, о каком именно конце идёт речь.
В завершении вечера, уже после спектакля, гардеробщик сыграл с автором этих строк сценку «Вы коллекционируете бирки, но в нашем театре так делать нельзя. Вы теперь будете выбирать пальто получше?». Никаких бирок он, когда забирал одежду, разумеется, не выдавал. Спектакль окончен, занавес – под припев «Владимирского централа» я второй день сожалею (нет), что на память об этом филиале МХАТа у меня ничего не осталось.
2️⃣ ❤️
🏛 Театр на Плотинке
🎭 Режиссёр: Алексей Шехирев
📆 Дата показа: 11.04.2025
📚 Пьесу Бернарда Слэйда, по которой поставлен спектакль, можно найти в Театральной библиотеке Сергея Ефимова – https://theatre-library.ru/files/s/slade_bernard/slade_bernard_8189.doc
Как говорил Станиславский (что, впрочем, не совсем соответствует историческим реалиям), театр начинается с вешалки. Руководство неизвестного мне до минувшей пятницы Театра на Плотинке с рвением отличника следует заветам
В холле играет ретромузыка с виниловых пластинок, проходит выставка картин сомнительной художественной ценности (их автор явно вдохновлялся произведениями Ван Гога и Гогена, часть работ – унылая копипаста), гостям наливают чай – в зрительном зале температура примерно как в мясном отделе Metro. Всё вышеперечисленное, за исключением чая, можно приобрести в домашнюю коллекцию. По словам гардеробщика, проблемы с отоплением для театра не в новинку, однако есть подозрение, что трубы и батареи намеренно сдали в металлолом.
Уровень постановки колеблется между лёгкой фривольностью и испанским стыдом – второй раз в жизни мне было неловко за происходящее на сцене. В попытке уйти в формат комедии для экзальтированных дамочек и пенсионерок с закадровым смехом и шутками уровня передачи «Кривое зеркало» авторы спектакля потеряли основную идею, заложенную Слэйдом в пьесе. Ключевым в ней всё же является не «курортный роман» домохозяйки Дорис и бухгалтера Джорджа, затянувшийся на долгие 26 лет, а его исторический фон – 50-70-е годы XX века в США – от Великой депрессии до экономического подъёма, циклично перетекающего в суровый кризис.
Сомневаюсь, что постановка, где Дорис из года в год меняет платья не по размеру (каждое последующее облегает её фигуру всё сильнее) и периодически неприятно взвизгивает, а Джордж с завидным постоянством бросает её на видавший виды диван и прыгает сверху, могла бы получить премию Drama Desk Award. Ну невозможно после глупейших шуток об импотенции и беременности, приправленных неуместными кривляниями, на полном серьёзе сострадать герою, оплакивающему погибшего во Вьетнаме сына, – тем более, что контекст безжалостно вырезан, – минута, и драма спешно сворачивается, актёры вновь призывают Сергеевича, на сей раз Никиту, своей «звенящей пошлостью».
Отдельный вид искусства – интермедии в исполнении упомянутого ранее гардеробщика, по совместительству служащего отеля Челмерса, встроенные в постановку, вероятно, для наглядной иллюстрации течения времени. Зритель благодаря ним, по идее, должен смахнуть слезу и не одну, однако в силу посредственной актёрской игры смотрится всё это, как заполнение паузы, чтобы главные герои успели переодеться.
Ну и финал: в нормальных театрах – высшая точка спектакля, оставляющая послевкусие, заставляющая переосмысливать увиденное ещё неделю-две, здесь – реплика Дорис о том, как она любит счастливый конец, – после полутора часов разнузданной пошлости звучащая двусмысленно – можно догадаться, о каком именно конце идёт речь.
В завершении вечера, уже после спектакля, гардеробщик сыграл с автором этих строк сценку «Вы коллекционируете бирки, но в нашем театре так делать нельзя. Вы теперь будете выбирать пальто получше?». Никаких бирок он, когда забирал одежду, разумеется, не выдавал. Спектакль окончен, занавес – под припев «Владимирского централа» я второй день сожалею (нет), что на память об этом филиале МХАТа у меня ничего не осталось.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍4⚡2🔥2😁1🤔1🙈1
🌖 Кэндзабуро Оэ «Футбол 1860 года» (Издательство «АСТ», 2024)
Волею судеб вышло так, что несколько книг, прочитанных мной за минувшие полгода, содержательно перекликаются между собой – несмотря на разное время написания изданы они были (впервые или повторно) практически друг за другом – и затрагивают тему оккупации Кореи Японией в период Второй мировой войны, повлекшей за собой размывание состава населения обеих стран.
«Футбол» Оэ, уже считающийся классикой, для русского читателя не особо привычен – сказывается разница в менталитетах: поступки персонажей нелогичны, их мотивация порой не до конца понятна. Действие разворачивается в Японии 1960-х, уже после поражения, на территории страны продолжают жить оказавшиеся там не по своей воле корейцы.
Не без некоторой иронии следует говорить о главных героях романа – представителях древнего рода Нэдокоро. Старший из братьев – Мицу – воплощение депрессии, готов обвинить себя во всех бедах человечества, погружён в бесконечное самокопание. На то, конечно, есть причины: друг покончил с собой, ребёнок психически болен, жена – завсегдатай«Красного и белого» магазинов по продаже алкоголя, следующая постулату «Если от дешёвого спиртного эффект тот же, зачем платить больше?». Младший брат – Такаси – «новый революционер», недавно вернувшийся из США, где ездил по городам и весям вместе с театральной группой и участвовал в постановках под лозунгом «В Японии всё плохо». Что в целом сомнительно для того времени – не трудно догадаться, что к американцам в свете не столь давних ядерных бомбардировок жители Страны восходящего солнца в основной массе испытывали неприязнь.
Мицу и Такаси направляются в родную деревню, последний – с целью совершить что-нибудь великое к 100-летию крестьянского восстания, дабы прославить память предков. В 1860-м бунт случился из-за реформы, заменявшей местных феодальных князей на губернаторов, назначаемых центральным правительством, в 1960-м – движущей силой должна была стать ненависть к корейцам. Для упрощения задачи обленившимся жителям Такаси фокусирует их внимание на владельце местного супермаркета. Тот мало того, что берёт деньги за покупки с населения, торгует некачественными товарами втридорога, ведя «двойную бухгалтерию», так ещё и не даёт зарабатывать местной молодёжи, организовавшей, как бы теперь сказали, малое предприятие по выращиванию кур. К тому же, сей успешный бизнесмен – кореец.
Стараясь походить на героического прадеда, Такаси собирает вокруг себя юных потомков самураев (формально для футбольных тренировок), однако жестоко просчитывается. Идеалы у современного поколения уже не те, что у доблестных предков, целеустремлённость почти на нуле. Смыло мост в результате паводка? Зачем восстанавливать, новый же тоже рано или поздно разрушится. В беспорядках поучаствовать? Можно, но только ничего идеологического и милитаристского не предлагать, вот телевизор или что подороже из супермаркета украсть с целью наживы – это всегда пожалуйста. «Новое восстание» под предводительством Такаси сводится к разграблению, которому способствует снегопад, отрезавший деревню от цивилизации.
Несмотря на то, что издан роман в том же переводе, что в 80-ые, с лёгкой цензурой, да и футбола в нём нет никакого, лишь его упоминание вскользь – ради броского заголовка, – в книге всё же обнаружены:
📌 «чеховское ружьё», выстрелившее в нужный момент;
📌 надежда – для Мицу и его жены (а в их образах и для Японии в целом) – на новую жизнь;
📌 неуловимое сходство с «Братьями Карамазовыми» Достоевского.
4️⃣ ❤️
Волею судеб вышло так, что несколько книг, прочитанных мной за минувшие полгода, содержательно перекликаются между собой – несмотря на разное время написания изданы они были (впервые или повторно) практически друг за другом – и затрагивают тему оккупации Кореи Японией в период Второй мировой войны, повлекшей за собой размывание состава населения обеих стран.
«Футбол» Оэ, уже считающийся классикой, для русского читателя не особо привычен – сказывается разница в менталитетах: поступки персонажей нелогичны, их мотивация порой не до конца понятна. Действие разворачивается в Японии 1960-х, уже после поражения, на территории страны продолжают жить оказавшиеся там не по своей воле корейцы.
Не без некоторой иронии следует говорить о главных героях романа – представителях древнего рода Нэдокоро. Старший из братьев – Мицу – воплощение депрессии, готов обвинить себя во всех бедах человечества, погружён в бесконечное самокопание. На то, конечно, есть причины: друг покончил с собой, ребёнок психически болен, жена – завсегдатай
Мицу и Такаси направляются в родную деревню, последний – с целью совершить что-нибудь великое к 100-летию крестьянского восстания, дабы прославить память предков. В 1860-м бунт случился из-за реформы, заменявшей местных феодальных князей на губернаторов, назначаемых центральным правительством, в 1960-м – движущей силой должна была стать ненависть к корейцам. Для упрощения задачи обленившимся жителям Такаси фокусирует их внимание на владельце местного супермаркета. Тот мало того, что берёт деньги за покупки с населения, торгует некачественными товарами втридорога, ведя «двойную бухгалтерию», так ещё и не даёт зарабатывать местной молодёжи, организовавшей, как бы теперь сказали, малое предприятие по выращиванию кур. К тому же, сей успешный бизнесмен – кореец.
Стараясь походить на героического прадеда, Такаси собирает вокруг себя юных потомков самураев (формально для футбольных тренировок), однако жестоко просчитывается. Идеалы у современного поколения уже не те, что у доблестных предков, целеустремлённость почти на нуле. Смыло мост в результате паводка? Зачем восстанавливать, новый же тоже рано или поздно разрушится. В беспорядках поучаствовать? Можно, но только ничего идеологического и милитаристского не предлагать, вот телевизор или что подороже из супермаркета украсть с целью наживы – это всегда пожалуйста. «Новое восстание» под предводительством Такаси сводится к разграблению, которому способствует снегопад, отрезавший деревню от цивилизации.
Несмотря на то, что издан роман в том же переводе, что в 80-ые, с лёгкой цензурой, да и футбола в нём нет никакого, лишь его упоминание вскользь – ради броского заголовка, – в книге всё же обнаружены:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥4❤3⚡1💯1🍓1
🌗 Томас Гунциг «Рокки, последний берег» (Издательство «Поляндрия No Age», 2024)
Компактная по объёму постапокалиптическая история бельгийца Томаса Гунцига, оставшаяся на память о фестивале «ЕЩЁНЕМАРТ» в Тюмени. Взял её за неимением альтернативы (конкурировали с ней только опусы тех самых авторок из «Есть смысл»), однако прочёл на удивление быстро: и сюжет неплох, и перевод достойный.
События романа разворачиваются в плюс-минус наше время, в качестве саундтрека к сюрреалистической картинке идеально монтируется упоминаемый в «Рокки» альбом Billie Eilish «Happier Than Ever». Следующую пластинку, согласно логике Гунцига, она записать уже не смогла – на Земле появился некий страшный вирус, с молниеносной скоростью выкосивший мировое население за исключением небольшого количества «избранных», заранее подготовивших для себя убежища в местах, удалённых от цивилизации.
Повествование ведётся от лица Фреда, отца семейства, его жены Элен, их детей Александра и Жанны в ключевые временные точки жизни на острове: прибытие – эйфория – стагнация – «новая катастрофа». Поскольку встречаем мы эту разномастную компанию спустя пять лет изоляции, выглядят они крайне нездорово. Технократ Фред, потративший уйму денег на оборудование и провизию, ходит по складам и изо дня в день скрупулёзно подсчитывает оставшуюся консервацию, замороженные блюда и бутылки вина. Элен не знает, чем себя занять, спит и слоняется по дому. Оба плотно сидят на антидепрессантах и временами выпадают из реальности. Александр, запасаясь сменой одежды, скудным провиантом и алкоголем, неделями прячется в скалах у океана, слушая в наушниках live-концерты рок-звёзд и вспоминая свой первый и единственный поцелуй. Жанна шпионит за близкими, смотрит глупые сериалы и готовится сбежать на большую землю на ржавеющей у берега яхте.
До момента выхода из строя серверов, поддерживавших автономное существование высокотехнологичного бункера, члены семьи не общаются между собой, последовательно проходя все стадии расчеловечивания. Над домом сгущается плотная атмосфера взаимной ненависти. И ладно бы извечная проблема отцов и детей, здесь жена низводит мужа, муж – жену, все вместе – обслуживающий персонал – супружескую пару из Латинской Америки. Слуги после обрыва коммуникаций с внешним миром выходят из-под контроля, финансовая мотивация не работает: во-первых, негде потратить деньги, во-вторых, вряд ли существуют банки, где можно было бы их обналичить. И что, по вашему, должен был сделать Фред с персоналом, отказывающимся заниматься домашним хозяйством и нагло ворующим лично им отобранное коллекционное вино? Всё верно, физически устранить.
Казалось бы, точка невозврата пройдена, однако герои смогут критически переосмыслить ситуацию после разрушения дома и совместного просмотра единственного восстановленного с повреждённых жёстких дисков фильма – «Рокки» с Сильвестром Сталлоне: понять, что в вопросе выживания в новой реальности ресурсы не самое главное. Даже располагая ими, человек в отсутствии доверительного живого общения может только условно существовать. И несмотря на открытый финал, хоть это и будет громко сказано, но всё же есть шансы на возрождение человечества после апокалипсиса (в реалиях Гунцига, разумеется).
5️⃣ ❤️
«Правда – как пластырь, который надо отодрать, лучше сразу, не то будет больнее!»
Компактная по объёму постапокалиптическая история бельгийца Томаса Гунцига, оставшаяся на память о фестивале «ЕЩЁНЕМАРТ» в Тюмени. Взял её за неимением альтернативы (конкурировали с ней только опусы тех самых авторок из «Есть смысл»), однако прочёл на удивление быстро: и сюжет неплох, и перевод достойный.
События романа разворачиваются в плюс-минус наше время, в качестве саундтрека к сюрреалистической картинке идеально монтируется упоминаемый в «Рокки» альбом Billie Eilish «Happier Than Ever». Следующую пластинку, согласно логике Гунцига, она записать уже не смогла – на Земле появился некий страшный вирус, с молниеносной скоростью выкосивший мировое население за исключением небольшого количества «избранных», заранее подготовивших для себя убежища в местах, удалённых от цивилизации.
Повествование ведётся от лица Фреда, отца семейства, его жены Элен, их детей Александра и Жанны в ключевые временные точки жизни на острове: прибытие – эйфория – стагнация – «новая катастрофа». Поскольку встречаем мы эту разномастную компанию спустя пять лет изоляции, выглядят они крайне нездорово. Технократ Фред, потративший уйму денег на оборудование и провизию, ходит по складам и изо дня в день скрупулёзно подсчитывает оставшуюся консервацию, замороженные блюда и бутылки вина. Элен не знает, чем себя занять, спит и слоняется по дому. Оба плотно сидят на антидепрессантах и временами выпадают из реальности. Александр, запасаясь сменой одежды, скудным провиантом и алкоголем, неделями прячется в скалах у океана, слушая в наушниках live-концерты рок-звёзд и вспоминая свой первый и единственный поцелуй. Жанна шпионит за близкими, смотрит глупые сериалы и готовится сбежать на большую землю на ржавеющей у берега яхте.
До момента выхода из строя серверов, поддерживавших автономное существование высокотехнологичного бункера, члены семьи не общаются между собой, последовательно проходя все стадии расчеловечивания. Над домом сгущается плотная атмосфера взаимной ненависти. И ладно бы извечная проблема отцов и детей, здесь жена низводит мужа, муж – жену, все вместе – обслуживающий персонал – супружескую пару из Латинской Америки. Слуги после обрыва коммуникаций с внешним миром выходят из-под контроля, финансовая мотивация не работает: во-первых, негде потратить деньги, во-вторых, вряд ли существуют банки, где можно было бы их обналичить. И что, по вашему, должен был сделать Фред с персоналом, отказывающимся заниматься домашним хозяйством и нагло ворующим лично им отобранное коллекционное вино? Всё верно, физически устранить.
Казалось бы, точка невозврата пройдена, однако герои смогут критически переосмыслить ситуацию после разрушения дома и совместного просмотра единственного восстановленного с повреждённых жёстких дисков фильма – «Рокки» с Сильвестром Сталлоне: понять, что в вопросе выживания в новой реальности ресурсы не самое главное. Даже располагая ими, человек в отсутствии доверительного живого общения может только условно существовать. И несмотря на открытый финал, хоть это и будет громко сказано, но всё же есть шансы на возрождение человечества после апокалипсиса (в реалиях Гунцига, разумеется).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2⚡1👍1🔥1👏1🐳1