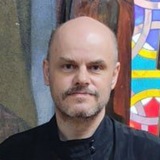ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ БЕЗ ГЛЯНЦА
Сложно найти среди людей, прославленных Церковью, фигуры более неоднозначной, чем о. Иоанн Кронштадтский.
Человек, ради ежедневного служения литургии, отказавшийся от плотских отношений с женой и лишивший ее радости материнства. Священник, посещавший дома нищих, чтобы помогать бедным женщинам по хозяйству и присматривать за детьми. Святой, воскрешавший мертвых, и ставший почетным членом черносотенного «Союза русского народа», благословивший знамена, под которыми потом нередко совершались убийства и погромы. Можем ли мы хотя бы немного понять, каким он был на самом деле?
+++
Иван Сергиев родился в семье нищего псаломщика Никольской церкви села Сура Пинежского уезда Архангельской губернии, и с детства знал, что такое крайняя нужда. В семье было шестеро детей, трое умерли в младенчестве. Родители его едва сводили концы с концами. Впрочем, отец умер очень рано в 48 лет, когда Иван уже учился в Архангельской духовной семинарии.
+++
И в семинарии, и в академии он был одним из самых незаметных студентов. Его однокурсники (среди которых было много ярких и известных людей) впоследствии ничего не могли о нем вспомнить. Разве что: после вечерней молитвы «он еще долго молился перед иконой у своей кровати».
+++
Его богословский и культурный багаж был весьма невелик. Он не читал художественной литературы, не интересовался искусством, не разбирался в научно-техническом прогрессе.
Но при этом никогда не был высокомерен и, даже обретя всероссийскую известность, понимал, что обязан этим только Богу:
«Дед мой был непросвещенный, отец – также, а я получил обилие света умственного! (...) Твоя благость сделала меня тем, чем я есмь».
+++
Учась в академии, он мечтал стать проповедником среди диких языческих племен Америки или Сибири. Но в какой-то момент понял, что здесь, в 50-ти километрах от столицы, люди не менее нуждаются в евангельском Слове.
+++
Кронштадт середины 19 века был местом весьма опасным. Сюда ссылали мелких преступников. Ночью по улицам было опасно ходить: постоянно происходили убийства, разбой и грабежи. Не говоря уже о разгуле пьянства и проституции.
«На нашем небольшом острове сатана зримо поставил престол свой», – записывает в своем дневнике о. Иоанн в 1857 году.
+++
В первой проповеди после рукоположения во иерея он сказал:
«Знаю, что может сделать меня более или менее достойным этого сана и способным проходить это звание… Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братия мои».
В его глазах белый священник стоит выше ангелов, поскольку он один имеет возможность не только просить, но даже требовать от Бога помощи и милосердия к людям - жалким, несчастным, больным и погибающим во грехе.
+++
Первое время жители города принимали о. Иоанна за юродивого или сумасшедшего. Он бродил вечерами по улицам, не замечая ничего вокруг. Иногда босой. Постоянно якшался с городской рванью и пьянью, за что его терпеть не мог кронштадтский полицмейстер.
Не по душе он пришелся и настоятелю Андреевского собора, куда был зачислен в штат. Того раздражало, что новый священник хотел каждый день служить литургию. Чтобы помешать о. Иоанну делать это, настоятель каждый день забирал антиминс к себе домой.
+++
Еще более скандальными выглядели его отношения с молодой супругой. Эта история тоже стала предметом городских и церковных сплетен.
Чтобы получить приход, Иван Сергиев должен был жениться на дочери уходящего на покой протоиерея. Это было обычной практикой того времени.
Это был брак не по любви, а по договору жениха с отцом невесты. Кроме нее в семье было пятеро детей. По сути, он взял их на свое обеспечение до конца жизни.
Скандальность была в другом. Еще до брака он принял решение сохранять девственность, чтобы иметь возможность ежедневно служить литургию. И об этом решении жена узнала только после свадьбы.
+++
Обвенчавшись с 26-летней Елизаветой Несвицкой, он объявил ей: «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно. А мы с тобой посвятим себя на служение Богу». Это означало, что они будут жить, как брат с сестрой.
(Продолжение ниже)
Сложно найти среди людей, прославленных Церковью, фигуры более неоднозначной, чем о. Иоанн Кронштадтский.
Человек, ради ежедневного служения литургии, отказавшийся от плотских отношений с женой и лишивший ее радости материнства. Священник, посещавший дома нищих, чтобы помогать бедным женщинам по хозяйству и присматривать за детьми. Святой, воскрешавший мертвых, и ставший почетным членом черносотенного «Союза русского народа», благословивший знамена, под которыми потом нередко совершались убийства и погромы. Можем ли мы хотя бы немного понять, каким он был на самом деле?
+++
Иван Сергиев родился в семье нищего псаломщика Никольской церкви села Сура Пинежского уезда Архангельской губернии, и с детства знал, что такое крайняя нужда. В семье было шестеро детей, трое умерли в младенчестве. Родители его едва сводили концы с концами. Впрочем, отец умер очень рано в 48 лет, когда Иван уже учился в Архангельской духовной семинарии.
+++
И в семинарии, и в академии он был одним из самых незаметных студентов. Его однокурсники (среди которых было много ярких и известных людей) впоследствии ничего не могли о нем вспомнить. Разве что: после вечерней молитвы «он еще долго молился перед иконой у своей кровати».
+++
Его богословский и культурный багаж был весьма невелик. Он не читал художественной литературы, не интересовался искусством, не разбирался в научно-техническом прогрессе.
Но при этом никогда не был высокомерен и, даже обретя всероссийскую известность, понимал, что обязан этим только Богу:
«Дед мой был непросвещенный, отец – также, а я получил обилие света умственного! (...) Твоя благость сделала меня тем, чем я есмь».
+++
Учась в академии, он мечтал стать проповедником среди диких языческих племен Америки или Сибири. Но в какой-то момент понял, что здесь, в 50-ти километрах от столицы, люди не менее нуждаются в евангельском Слове.
+++
Кронштадт середины 19 века был местом весьма опасным. Сюда ссылали мелких преступников. Ночью по улицам было опасно ходить: постоянно происходили убийства, разбой и грабежи. Не говоря уже о разгуле пьянства и проституции.
«На нашем небольшом острове сатана зримо поставил престол свой», – записывает в своем дневнике о. Иоанн в 1857 году.
+++
В первой проповеди после рукоположения во иерея он сказал:
«Знаю, что может сделать меня более или менее достойным этого сана и способным проходить это звание… Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братия мои».
В его глазах белый священник стоит выше ангелов, поскольку он один имеет возможность не только просить, но даже требовать от Бога помощи и милосердия к людям - жалким, несчастным, больным и погибающим во грехе.
+++
Первое время жители города принимали о. Иоанна за юродивого или сумасшедшего. Он бродил вечерами по улицам, не замечая ничего вокруг. Иногда босой. Постоянно якшался с городской рванью и пьянью, за что его терпеть не мог кронштадтский полицмейстер.
Не по душе он пришелся и настоятелю Андреевского собора, куда был зачислен в штат. Того раздражало, что новый священник хотел каждый день служить литургию. Чтобы помешать о. Иоанну делать это, настоятель каждый день забирал антиминс к себе домой.
+++
Еще более скандальными выглядели его отношения с молодой супругой. Эта история тоже стала предметом городских и церковных сплетен.
Чтобы получить приход, Иван Сергиев должен был жениться на дочери уходящего на покой протоиерея. Это было обычной практикой того времени.
Это был брак не по любви, а по договору жениха с отцом невесты. Кроме нее в семье было пятеро детей. По сути, он взял их на свое обеспечение до конца жизни.
Скандальность была в другом. Еще до брака он принял решение сохранять девственность, чтобы иметь возможность ежедневно служить литургию. И об этом решении жена узнала только после свадьбы.
+++
Обвенчавшись с 26-летней Елизаветой Несвицкой, он объявил ей: «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно. А мы с тобой посвятим себя на служение Богу». Это означало, что они будут жить, как брат с сестрой.
(Продолжение ниже)
(Начало выше)
+++
Весть об этом решении разнеслась быстро. Молодого священника вызвал к себе петербургский митрополит Исидор (Никольский), которому пожаловалась на мужа Елизавета. И уговорами, и угрозами пытался склонить о. Иоанна к общению с женой.
«В этом есть воля Божия, и вы ее узнаете…», - ответил ему юноша.
Дело дошло даже до епископа Феофана Затворник, который письмом предупредил о. Иоанна, что его деятельность может закончиться либо «ничем», либо «страшным падением», ибо «никто еще, со времени принятия христианства, не только в России, но и на Востоке, не решался на подобный путь, не будучи монахом, а священником, живущим вне ограды и устава монастырских…».
+++
Однако сам о. Иоанн не обращает на это внимание. Его жизнь проходит в иных заботах.
Каждый день бродя по городу между 11 и 12 часами ночи, он заходит в самые нищие и грязные дома, где в это время горит свет – признак беды.
Видя больную мать или голодных детей, покупает еду или лекарства, приводит доктора. Сидит с маленькими детьми и стирает белье в домах бедных женщин, которые вынуждены работать, чтобы кормить семью.
Нередко после этих прогулок он возвращается домой без гроша и босым, отдавая беднякам даже обувь. Иногда его прихожане приносят потом матушке Елизавете его сапоги, выкупая их назад.
+++
Один из биографов о. Иоанна заметил: это первый священник, который не просил деньги, а отдавал.
+++
Тем временем его жена подает прошение, чтобы заработную плату мужа выдавали ей на руки, иначе семье не прожить. Тогда молодой священник устраивается преподавать Закон Божий в местной гимназии, чтобы иметь деньги на пожертвования.
С какого-то момента его начинают постоянно сопровождать нищие и бездомные: они следуют за ним, как свита за королем.
+++
В дневнике конца 1859 года появляется первая запись о воскрешении младенца:
«27-го числа декабря в 10 часов пополуночи позвали меня крестить младенца к кронштадтскому купцу Алексею Коновалову...
(…) …я тотчас же осмотрел его и нашел, что он был чрезвычайно слаб и жизнь в нем быстро потухала… младенец засыпал сном смертным, и всё тело начинало холодеть. (…) Я боялся, как бы он не скончался у меня на руках, но, надеясь на силу Таинства… я погрузил его три раза в воду – во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вынув из воды и положив его на руки восприемнику, я услышал, что он закричал… глаза, взгляд его стали видимо проясняться и в теле показалась некоторая живость; затем, когда я помазал его святым миром, младенца уже нельзя было узнать: глаза его загорелись и заблестели, лицо оживилось и расцвело, во всем теле, во всех его членах явилась необыкновенная живость».
Затем подобные записи начинают появляться всё чаще и чаще.
+++
Он воскрешает, исцеляет, спасает погибающих в море, управляет стихиями.
Одновременно с этим в его семье происходят скандалы. В основном из-за отсылки денег разным бедным родственникам.
Жена подбирает ключи к его столу, вытаскивает оттуда деньги и вещи. «Как львица разъяренная она <налетела> на меня и готова была растерзать; от злости ревела, выла, как бешеная; грозила ударить по щеке при детях (усыновленных – прим.); корила бабами, т. е. благочестивыми женщинами, имеющими со мною духовное общение в молитвах, таинствах, духовных беседах и чтениях, поносила самым бесчестным образом, а себя возвышала».
+++
Помимо нищих Кронштадта на его попечении находятся две семьи: многочисленная родня жены и огромное количество ближних и дальних родственников из Суры. Выходят замуж его сестры, появляются дети у племянников и племянниц. И все они непрерывно просят у него помощи: не от жадности – от нужды.
(Продолжение ниже)
+++
Весть об этом решении разнеслась быстро. Молодого священника вызвал к себе петербургский митрополит Исидор (Никольский), которому пожаловалась на мужа Елизавета. И уговорами, и угрозами пытался склонить о. Иоанна к общению с женой.
«В этом есть воля Божия, и вы ее узнаете…», - ответил ему юноша.
Дело дошло даже до епископа Феофана Затворник, который письмом предупредил о. Иоанна, что его деятельность может закончиться либо «ничем», либо «страшным падением», ибо «никто еще, со времени принятия христианства, не только в России, но и на Востоке, не решался на подобный путь, не будучи монахом, а священником, живущим вне ограды и устава монастырских…».
+++
Однако сам о. Иоанн не обращает на это внимание. Его жизнь проходит в иных заботах.
Каждый день бродя по городу между 11 и 12 часами ночи, он заходит в самые нищие и грязные дома, где в это время горит свет – признак беды.
Видя больную мать или голодных детей, покупает еду или лекарства, приводит доктора. Сидит с маленькими детьми и стирает белье в домах бедных женщин, которые вынуждены работать, чтобы кормить семью.
Нередко после этих прогулок он возвращается домой без гроша и босым, отдавая беднякам даже обувь. Иногда его прихожане приносят потом матушке Елизавете его сапоги, выкупая их назад.
+++
Один из биографов о. Иоанна заметил: это первый священник, который не просил деньги, а отдавал.
+++
Тем временем его жена подает прошение, чтобы заработную плату мужа выдавали ей на руки, иначе семье не прожить. Тогда молодой священник устраивается преподавать Закон Божий в местной гимназии, чтобы иметь деньги на пожертвования.
С какого-то момента его начинают постоянно сопровождать нищие и бездомные: они следуют за ним, как свита за королем.
+++
В дневнике конца 1859 года появляется первая запись о воскрешении младенца:
«27-го числа декабря в 10 часов пополуночи позвали меня крестить младенца к кронштадтскому купцу Алексею Коновалову...
(…) …я тотчас же осмотрел его и нашел, что он был чрезвычайно слаб и жизнь в нем быстро потухала… младенец засыпал сном смертным, и всё тело начинало холодеть. (…) Я боялся, как бы он не скончался у меня на руках, но, надеясь на силу Таинства… я погрузил его три раза в воду – во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вынув из воды и положив его на руки восприемнику, я услышал, что он закричал… глаза, взгляд его стали видимо проясняться и в теле показалась некоторая живость; затем, когда я помазал его святым миром, младенца уже нельзя было узнать: глаза его загорелись и заблестели, лицо оживилось и расцвело, во всем теле, во всех его членах явилась необыкновенная живость».
Затем подобные записи начинают появляться всё чаще и чаще.
+++
Он воскрешает, исцеляет, спасает погибающих в море, управляет стихиями.
Одновременно с этим в его семье происходят скандалы. В основном из-за отсылки денег разным бедным родственникам.
Жена подбирает ключи к его столу, вытаскивает оттуда деньги и вещи. «Как львица разъяренная она <налетела> на меня и готова была растерзать; от злости ревела, выла, как бешеная; грозила ударить по щеке при детях (усыновленных – прим.); корила бабами, т. е. благочестивыми женщинами, имеющими со мною духовное общение в молитвах, таинствах, духовных беседах и чтениях, поносила самым бесчестным образом, а себя возвышала».
+++
Помимо нищих Кронштадта на его попечении находятся две семьи: многочисленная родня жены и огромное количество ближних и дальних родственников из Суры. Выходят замуж его сестры, появляются дети у племянников и племянниц. И все они непрерывно просят у него помощи: не от жадности – от нужды.
(Продолжение ниже)
(Начало выше)
+++
В его квартире на полном его иждивении кроме жены и тестя живут две его несовершеннолетние свояченицы и три шурина. Он постоянно жалуется на них в своих дневниках и убеждает себя их любить.
«Горе мне с домашними моими, с их неуважением к постановлениям церковным, с их лакомством всегдашним, безобраз<ием> в повседневной жизни… с их леностию к молитве домашней и общественной (раз 5–6 в год ходят в церковь – Бог им судья!)… А как оне воспитывают детей! О ужас! Вне всякого уважения к уставам Церкви! Сами не соблюдают посты и детей также учат: на 1 неделе Великого поста едят сыр и яйца, не говоря о икре и рыбе. – Кто их вразумит? – Меня не слушают», «Домашние – пробный камень веры».
+++
В середине 60-х г.г. на исповедь и причастие к нему в иной день может прийти всего один человек.
Через 20 лет ему придется начинать службу в 5 утра и заканчивать в 14.30. На исповеди и причастие в Андреевском соборе будет собираться от пяти до десяти тысяч человек (при вместимости в 1,5 – 2 тысячи). А с этим: давка, обмороки, покалеченные и погибшие.
Он будет спать по 3-4 часа в сутки, отдыхать во время переездов и все остальное время посвящать Богу и людям.
+++
В 1872 году в газете «Кронштадтский вестник» появляется его первое публичное обращение. Он говорит о бедности и главное зло видит не в человеческих слабостях (пьянстве и т.п.), а в равнодушном отношении к этой нищете обеспеченных и богатых людей. Так начинается широкая благотворительная деятельность под патронажем о. Иоанна.
+++
В июне 1874 года при Андреевском соборе основано православное христианское братство «Попечительство святого апостола Андрея Первозванного»
Уже в октябре оно собирает деньги и строит дом для 100 семей погорельцев, ютившихся в землянках после недавнего пожара.
В марте 1875 года в этом доме открывают бесплатное начальное народное училище.
Так начинается знаменитый Дом трудолюбия, подобного которому по размаху не было в то время ни в одной из столиц.
+++
Дом трудолюбия включал в себя 3-этажный ночлежный приют, 4-этажный странноприимный дом. Пеньковую и картузную мастерские, где в 1902 г. работало более 7 тысяч бывших нищих. Приют для беспризорных и детский сад. Загородную дачу для детей со своим огородом. Богадельню для больных и престарелых женщин. Бесплатную амбулаторию (лишь за один год через нее прошло три тысячи больных). Народную столовую (выдавала до 800 обедов в день).
Здесь открылись: бесплатная начальная школа (в 1903 г. обучалось 259 детей) и ремесленные классы для детей неимущих родителей; мастерская для обучения различным ремеслам, рисовальный класс; мастерские женского труда для девочек – шитье, кройка, вышивка; сапожная мастерская; детская библиотека. А также: воскресная школа для взрослых, лекторий, бесплатная народная читальня.
Также братство организовало выдачу пособий - деньгами, одеждой, обувью и другими необходимыми вещами. Помощь оказывалась всем нуждающимся, независимо от вероисповедания.
90 % денег для этого давал о. Иоанн. Чудеса, которые он творил, начали привлекать в Кронштадт огромные денежные потоки.
+++
Началом его всероссийской известности становится статья в петербургской газете «Новое время» (20 декабря 1883 г). Это - «Благодарственное заявление», подписанное шестнадцатью людьми, которых исцелил о. Иоанн.
Статья вызывает огромный резонанс. Связанные с ней обстоятельства тщательно расследуют обер-прокурор, главный цензор и столичный градоначальник. Однако ни один из них не находит в ней ничего крамольного.
+++
В Кронштадт потоком начинают идти письма с мольбой об исцелении.
В какой-то момент на почте вынуждены открыть особое отделение для приема писем и телеграмм о. Иоанну. Каждый день их доставляют на его квартиру мешками.
Для разбора почты ему приходится создать штат людей. Ответы печатаются. О. Иоанн своей рукой вписывает только имена просителей и ставит подпись.
(Продолжение ниже)
+++
В его квартире на полном его иждивении кроме жены и тестя живут две его несовершеннолетние свояченицы и три шурина. Он постоянно жалуется на них в своих дневниках и убеждает себя их любить.
«Горе мне с домашними моими, с их неуважением к постановлениям церковным, с их лакомством всегдашним, безобраз<ием> в повседневной жизни… с их леностию к молитве домашней и общественной (раз 5–6 в год ходят в церковь – Бог им судья!)… А как оне воспитывают детей! О ужас! Вне всякого уважения к уставам Церкви! Сами не соблюдают посты и детей также учат: на 1 неделе Великого поста едят сыр и яйца, не говоря о икре и рыбе. – Кто их вразумит? – Меня не слушают», «Домашние – пробный камень веры».
+++
В середине 60-х г.г. на исповедь и причастие к нему в иной день может прийти всего один человек.
Через 20 лет ему придется начинать службу в 5 утра и заканчивать в 14.30. На исповеди и причастие в Андреевском соборе будет собираться от пяти до десяти тысяч человек (при вместимости в 1,5 – 2 тысячи). А с этим: давка, обмороки, покалеченные и погибшие.
Он будет спать по 3-4 часа в сутки, отдыхать во время переездов и все остальное время посвящать Богу и людям.
+++
В 1872 году в газете «Кронштадтский вестник» появляется его первое публичное обращение. Он говорит о бедности и главное зло видит не в человеческих слабостях (пьянстве и т.п.), а в равнодушном отношении к этой нищете обеспеченных и богатых людей. Так начинается широкая благотворительная деятельность под патронажем о. Иоанна.
+++
В июне 1874 года при Андреевском соборе основано православное христианское братство «Попечительство святого апостола Андрея Первозванного»
Уже в октябре оно собирает деньги и строит дом для 100 семей погорельцев, ютившихся в землянках после недавнего пожара.
В марте 1875 года в этом доме открывают бесплатное начальное народное училище.
Так начинается знаменитый Дом трудолюбия, подобного которому по размаху не было в то время ни в одной из столиц.
+++
Дом трудолюбия включал в себя 3-этажный ночлежный приют, 4-этажный странноприимный дом. Пеньковую и картузную мастерские, где в 1902 г. работало более 7 тысяч бывших нищих. Приют для беспризорных и детский сад. Загородную дачу для детей со своим огородом. Богадельню для больных и престарелых женщин. Бесплатную амбулаторию (лишь за один год через нее прошло три тысячи больных). Народную столовую (выдавала до 800 обедов в день).
Здесь открылись: бесплатная начальная школа (в 1903 г. обучалось 259 детей) и ремесленные классы для детей неимущих родителей; мастерская для обучения различным ремеслам, рисовальный класс; мастерские женского труда для девочек – шитье, кройка, вышивка; сапожная мастерская; детская библиотека. А также: воскресная школа для взрослых, лекторий, бесплатная народная читальня.
Также братство организовало выдачу пособий - деньгами, одеждой, обувью и другими необходимыми вещами. Помощь оказывалась всем нуждающимся, независимо от вероисповедания.
90 % денег для этого давал о. Иоанн. Чудеса, которые он творил, начали привлекать в Кронштадт огромные денежные потоки.
+++
Началом его всероссийской известности становится статья в петербургской газете «Новое время» (20 декабря 1883 г). Это - «Благодарственное заявление», подписанное шестнадцатью людьми, которых исцелил о. Иоанн.
Статья вызывает огромный резонанс. Связанные с ней обстоятельства тщательно расследуют обер-прокурор, главный цензор и столичный градоначальник. Однако ни один из них не находит в ней ничего крамольного.
+++
В Кронштадт потоком начинают идти письма с мольбой об исцелении.
В какой-то момент на почте вынуждены открыть особое отделение для приема писем и телеграмм о. Иоанну. Каждый день их доставляют на его квартиру мешками.
Для разбора почты ему приходится создать штат людей. Ответы печатаются. О. Иоанн своей рукой вписывает только имена просителей и ставит подпись.
(Продолжение ниже)
(Начало выше)
+++
В город едут тысячи паломников. Он и сам начинает много ездить по стране. При этом ежедневно служит литургию, молебны, исповедует, причащает, беседует, помогает.
Непонятно, чем он питается, когда успевает отдохнуть. Чаще всего его видят молящимся. Он говорит, что молитва - это «дыхание души».
Приглашенный отдохнуть в одном из имений, он и там принимает посетителей: по 7–8 тысяч человек в день. Чтобы привезти следующих к нему паломников, к поезду цепляют по 10–12 добавочных вагонов.
Жизнь на износ. Но при этом до самой глубокой старости он выглядит гораздо моложе своих лет.
+++
«Созерцай всех людей в безмерно любящем их Боге, и, если ты любишь Бога искренно, тебе легко будет любить и всех людей, прощая их недостатки», – пишет отец Иоанн
Любовь к Богу для него на первом месте: любишь Бога, полюбишь и людей.
+++
Когда в конце жизни его спросили, откуда у него такая вера в Бога, он ответил: «Я жил в Церкви!» – «А что это такое – жили в Церкви?» – «Ну что значит жить в Церкви? Я всегда пребывал в церковной жизни. Служил литургию. Любил читать в храме богослужебные книги…».
Литургия и причастие – главный нескончаемый источник его сил: «Я здоров, благодаря ежедневному служению утрени и Литургии с Причащением Св. Таин…».
+++
О литургиях о. Иоанна.
«Меня поразила тогда необычайная огненная вдохновенность отца Иоанна. Он служил, весь охваченный внутренним «огнем». Такого пламенного служения я не видел ни раньше, ни после. Он был действительно как Серафим, предстоявший Богу. (...) Лицо отца Иоанна всё время обливалось слезами. Все движения его были быстрыми и резкими» (о. Сергий Четвериков).
«В своем служении он делал то же, но не так же… Он молился чрезвычайно громко, а главное: дерзновенно. Он «беседовал» с Господом, Божьей Матерью и святыми, беседовал со смелостью отца, просившего за детей; просил с несомненной верой в то, что Бог не только всемогущ, но без меры и милосерд. Бог есть любовь! А святые богоподобны. Вот почему отец Иоанн взывал к ним с твердым упованием» (митрополит Вениамин Федченков).
Митрополит Вениамин Федченков, знавший Иоанна Кронштадтского лично, не считал его одаренным проповедником и не придавал большого значения его чудесам. В то же время он почитал несомненным чудом его литургический дар.
+++
Из литургических нововведений о. Иоанна: практика частого причащения, открытие свободного доступа в алтарь для мирян (при нем там могло собираться до 100 человек); общие исповеди.
+++
В начале общей исповеди отец Иоанн обычно произносил проповедь на сюжет библейской истории. Затем говорил несколько слов о покаянии и громко на весь собор призывал собравшихся: «Кайтесь!».
Люди во весь голос каялись друг другу не только в повседневных грехах, но и в уголовных преступлениях – воровстве, избиении родственников и даже убийствах.
Как-то по головам тесно стоявших людей побежал человек с криком: «Я убил! Убил!».
В этот момент толпа превращалась «в единое покаянное «тело».
+++
Как-то перед выносом Чаши с Дарами о. Иоанн обратился к людям:
«Вот вы теперь примите Тела и Крови Самого Христа – и Он войдет в вас, и вы будете близки Ему, как родные. И если Господь Бог возлюбил Сына Своего, то и вас возлюбит и простит все ваши грехи… Только искренне покайтесь… припомните ваши грехи… помолитесь… и Бог простит вас».
Что особенного в этих простых словах? Но десятитысячная толпа мгновенно замолкла и беззвучно стала подходить к причастию.
(Продолжение ниже)
+++
В город едут тысячи паломников. Он и сам начинает много ездить по стране. При этом ежедневно служит литургию, молебны, исповедует, причащает, беседует, помогает.
Непонятно, чем он питается, когда успевает отдохнуть. Чаще всего его видят молящимся. Он говорит, что молитва - это «дыхание души».
Приглашенный отдохнуть в одном из имений, он и там принимает посетителей: по 7–8 тысяч человек в день. Чтобы привезти следующих к нему паломников, к поезду цепляют по 10–12 добавочных вагонов.
Жизнь на износ. Но при этом до самой глубокой старости он выглядит гораздо моложе своих лет.
+++
«Созерцай всех людей в безмерно любящем их Боге, и, если ты любишь Бога искренно, тебе легко будет любить и всех людей, прощая их недостатки», – пишет отец Иоанн
Любовь к Богу для него на первом месте: любишь Бога, полюбишь и людей.
+++
Когда в конце жизни его спросили, откуда у него такая вера в Бога, он ответил: «Я жил в Церкви!» – «А что это такое – жили в Церкви?» – «Ну что значит жить в Церкви? Я всегда пребывал в церковной жизни. Служил литургию. Любил читать в храме богослужебные книги…».
Литургия и причастие – главный нескончаемый источник его сил: «Я здоров, благодаря ежедневному служению утрени и Литургии с Причащением Св. Таин…».
+++
О литургиях о. Иоанна.
«Меня поразила тогда необычайная огненная вдохновенность отца Иоанна. Он служил, весь охваченный внутренним «огнем». Такого пламенного служения я не видел ни раньше, ни после. Он был действительно как Серафим, предстоявший Богу. (...) Лицо отца Иоанна всё время обливалось слезами. Все движения его были быстрыми и резкими» (о. Сергий Четвериков).
«В своем служении он делал то же, но не так же… Он молился чрезвычайно громко, а главное: дерзновенно. Он «беседовал» с Господом, Божьей Матерью и святыми, беседовал со смелостью отца, просившего за детей; просил с несомненной верой в то, что Бог не только всемогущ, но без меры и милосерд. Бог есть любовь! А святые богоподобны. Вот почему отец Иоанн взывал к ним с твердым упованием» (митрополит Вениамин Федченков).
Митрополит Вениамин Федченков, знавший Иоанна Кронштадтского лично, не считал его одаренным проповедником и не придавал большого значения его чудесам. В то же время он почитал несомненным чудом его литургический дар.
+++
Из литургических нововведений о. Иоанна: практика частого причащения, открытие свободного доступа в алтарь для мирян (при нем там могло собираться до 100 человек); общие исповеди.
+++
В начале общей исповеди отец Иоанн обычно произносил проповедь на сюжет библейской истории. Затем говорил несколько слов о покаянии и громко на весь собор призывал собравшихся: «Кайтесь!».
Люди во весь голос каялись друг другу не только в повседневных грехах, но и в уголовных преступлениях – воровстве, избиении родственников и даже убийствах.
Как-то по головам тесно стоявших людей побежал человек с криком: «Я убил! Убил!».
В этот момент толпа превращалась «в единое покаянное «тело».
+++
Как-то перед выносом Чаши с Дарами о. Иоанн обратился к людям:
«Вот вы теперь примите Тела и Крови Самого Христа – и Он войдет в вас, и вы будете близки Ему, как родные. И если Господь Бог возлюбил Сына Своего, то и вас возлюбит и простит все ваши грехи… Только искренне покайтесь… припомните ваши грехи… помолитесь… и Бог простит вас».
Что особенного в этих простых словах? Но десятитысячная толпа мгновенно замолкла и беззвучно стала подходить к причастию.
(Продолжение ниже)
(Начало выше)
+++
На пике славы через его руки ежегодно проходили миллионы рублей. Ему дарили золотые кресты, ризы, украшенные золотом и жемчугами. Кабинет, которым он никогда не пользовался, был забит мрамором, дорогими картинами, великолепными коврами. Ему принадлежало два парохода, на одном из которых он ежедневно плавал в Петербург, а второй – отдал монастырю.
Но при этом он жил в одной и той же служебной квартире, питался скудно, мяса не ел совсем. Ни один из его родственников не разбогател. И денег после него осталось 53 тысячи рублей (да и те ушли по завещанию в монастырь.
На деньги, переданные ему благотворителями, было построено 6 женских монастырей. За его счет жили и другие обители, и Дом трудолюбия.
+++
Один раз отец Иоанн посетил богатого больного (купца). Провожая его, тот сунул священнику в руку конверт.
Выйдя на улицу, он тут же отдал его первому нищему, который к нему подошел.
Купец остолбенел: «Батюшка, что вы сделали, там было 2 тысячи рублей!».
«Это его счастье», – равнодушно ответил отец Иоанн.
+++
Раз пришли к Батюшке две просительницы. Одна - богатая дама, другая – просто и бедно одетая.
Когда он вышел к ним, они упали на колени, и обе протянули ему конверты. Батюшка взял конверты в обе руки, немного подержал их так и потом, скрестив руки, подал им же эти конверты, только переменив их местами.
Дама всполошилась: «Батюшка, что вы делаете, там же три тысячи, это же я для вас!».
Батюшка говорит: «Ты лучше посмотри, что у тебя в конверте…»
А в том конверте было письмо сына бедно одетой женщины. Он писал, что у него по службе произошел просчет и, если он не достанет три тысячи рублей, ему ничего не останется, как покончить с собой, – и просил мать спасти его…
И такие случаи можно рассказывать бесконечно. И принимал, и отдавал он одинаково просто.
+++
Завелись у него и сумасшедшие почитательницы – «иоаннитки». Они старались укусить его за палец, когда он их причащал, и выдрать клок из его одежды. Приходящих в храм посетителей они встречали восторженной хвалой в честь священника и вопросом: «Разве вы не верите, что в отца Иоанна вселилась Святая Троица?».
+++
В 1894 г. его пригласили в Крым к умирающему императору Александру III. Исцелить императора ему не удалось. Вместо этого он исцелил разбитого параличом татарина, по просьбе его жены-мусульманки.
Удивительнее всего то, что он предложил ей помолиться вместе: «Ты молись по-своему, а я буду молиться по-своему». И его нисколько не смутила эта «экуменическая» молитва. Когда, помолившись, они вышли из дома, муж татарки уже шел к ним навстречу.
+++
После визита к умирающему царю, его делают настоятелем Андреевского собора (через 40 лет после начала служения). Николай II дарит ему свои портреты с личной подписью. Его награждают палицей и митрой, орденом Анны I степени. Уже незадолго до смерти вводят в состав членов Синода. Он побывает там только один раз: когда его будут отпевать перед зданием Синода.
Он пользуется этой «монаршей милостью» в основном, чтобы добиваться разрешений на открытие монастырей от епископов и синодальных чиновников.
+++
Есть у этой известности и другая сторона. Один раз рабочий-старообрядец зовет его домой якобы для беседы и вместо этого пытается задушить.
В другой раз: студент заходит в собор и начинает прикуривать от лампады. В этот момент о. Иоанн выходит из Царских врат с Чашей и делает ему замечание.
Студент в ответ бьет 76-летнего старика по щеке, так что Дары расплескиваются на камни.
О. Иоанн подставляет ему другую щеку: «Ударь еще раз!». Но студент уже схвачен людьми.
От этого удара священник, практически, глохнет.
+++
В октябре 1905 года вспыхивает кронштадтский бунт. По городу слышны выстрелы. Громят татарские ряды и магазины. В городе паника. Пароходы переполнены бегущими. В этот день, как всегда, о. Иоанн служит утреню и Литургию, посещает Богоявленскую церковь и во второй половине дня уезжает в Петербург. Печать называет его отъезд бегством и начинает травлю.
(Окончание ниже)
+++
На пике славы через его руки ежегодно проходили миллионы рублей. Ему дарили золотые кресты, ризы, украшенные золотом и жемчугами. Кабинет, которым он никогда не пользовался, был забит мрамором, дорогими картинами, великолепными коврами. Ему принадлежало два парохода, на одном из которых он ежедневно плавал в Петербург, а второй – отдал монастырю.
Но при этом он жил в одной и той же служебной квартире, питался скудно, мяса не ел совсем. Ни один из его родственников не разбогател. И денег после него осталось 53 тысячи рублей (да и те ушли по завещанию в монастырь.
На деньги, переданные ему благотворителями, было построено 6 женских монастырей. За его счет жили и другие обители, и Дом трудолюбия.
+++
Один раз отец Иоанн посетил богатого больного (купца). Провожая его, тот сунул священнику в руку конверт.
Выйдя на улицу, он тут же отдал его первому нищему, который к нему подошел.
Купец остолбенел: «Батюшка, что вы сделали, там было 2 тысячи рублей!».
«Это его счастье», – равнодушно ответил отец Иоанн.
+++
Раз пришли к Батюшке две просительницы. Одна - богатая дама, другая – просто и бедно одетая.
Когда он вышел к ним, они упали на колени, и обе протянули ему конверты. Батюшка взял конверты в обе руки, немного подержал их так и потом, скрестив руки, подал им же эти конверты, только переменив их местами.
Дама всполошилась: «Батюшка, что вы делаете, там же три тысячи, это же я для вас!».
Батюшка говорит: «Ты лучше посмотри, что у тебя в конверте…»
А в том конверте было письмо сына бедно одетой женщины. Он писал, что у него по службе произошел просчет и, если он не достанет три тысячи рублей, ему ничего не останется, как покончить с собой, – и просил мать спасти его…
И такие случаи можно рассказывать бесконечно. И принимал, и отдавал он одинаково просто.
+++
Завелись у него и сумасшедшие почитательницы – «иоаннитки». Они старались укусить его за палец, когда он их причащал, и выдрать клок из его одежды. Приходящих в храм посетителей они встречали восторженной хвалой в честь священника и вопросом: «Разве вы не верите, что в отца Иоанна вселилась Святая Троица?».
+++
В 1894 г. его пригласили в Крым к умирающему императору Александру III. Исцелить императора ему не удалось. Вместо этого он исцелил разбитого параличом татарина, по просьбе его жены-мусульманки.
Удивительнее всего то, что он предложил ей помолиться вместе: «Ты молись по-своему, а я буду молиться по-своему». И его нисколько не смутила эта «экуменическая» молитва. Когда, помолившись, они вышли из дома, муж татарки уже шел к ним навстречу.
+++
После визита к умирающему царю, его делают настоятелем Андреевского собора (через 40 лет после начала служения). Николай II дарит ему свои портреты с личной подписью. Его награждают палицей и митрой, орденом Анны I степени. Уже незадолго до смерти вводят в состав членов Синода. Он побывает там только один раз: когда его будут отпевать перед зданием Синода.
Он пользуется этой «монаршей милостью» в основном, чтобы добиваться разрешений на открытие монастырей от епископов и синодальных чиновников.
+++
Есть у этой известности и другая сторона. Один раз рабочий-старообрядец зовет его домой якобы для беседы и вместо этого пытается задушить.
В другой раз: студент заходит в собор и начинает прикуривать от лампады. В этот момент о. Иоанн выходит из Царских врат с Чашей и делает ему замечание.
Студент в ответ бьет 76-летнего старика по щеке, так что Дары расплескиваются на камни.
О. Иоанн подставляет ему другую щеку: «Ударь еще раз!». Но студент уже схвачен людьми.
От этого удара священник, практически, глохнет.
+++
В октябре 1905 года вспыхивает кронштадтский бунт. По городу слышны выстрелы. Громят татарские ряды и магазины. В городе паника. Пароходы переполнены бегущими. В этот день, как всегда, о. Иоанн служит утреню и Литургию, посещает Богоявленскую церковь и во второй половине дня уезжает в Петербург. Печать называет его отъезд бегством и начинает травлю.
(Окончание ниже)
(Начало выше)
+++
Одним из главных его грехов называют присутствие на освящении хоругви и знамени «Союза русского народа» и вступление в эту сомнительную организацию в ноябре 1906 г.
Происходит это за два года до смерти о. Иоанна на волне всеобщего монархо-патриотического подъема. В то время членами Союза становятся будущие патриархи Тихон и Алексий I, епископ Антоний (Храповицкий), ученый Дмитрий Менделеев, поэт Михаил Кузмин.
+++
В это время он уже тяжело болен и страдает от мучительных болей в мочевом пузыре. Царский хирург Вельяминов говорит о необходимости операции рака простаты.
20 декабря 1908 года отца Иоанна не стало.
«Душно мне, душно…» – говорил он перед смертью. Как пишет Павел Басинский: «с медицинской точки зрения это была, вероятно, сердечная недостаточность».
+++
Его похоронили в храме-усыпальнице, который он устроил для себя в крипте Иоанновского монастыря на Карповке.
В советское время ее залили бетоном, но тела святого почему-то не тронули.
Жена, Елизавета, называвшая его «брат Иоанн», умерла через полгода после его кончины. В последние месяцы она спала, завернувшись в его подрясник.
Она оставила завещание похоронить себя рядом с мужем в Иоанновом монастыре. Однако Синод ей в этой просьбе посмертно отказал.
(Составлено по материалам книги Павла Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды)
+++
Одним из главных его грехов называют присутствие на освящении хоругви и знамени «Союза русского народа» и вступление в эту сомнительную организацию в ноябре 1906 г.
Происходит это за два года до смерти о. Иоанна на волне всеобщего монархо-патриотического подъема. В то время членами Союза становятся будущие патриархи Тихон и Алексий I, епископ Антоний (Храповицкий), ученый Дмитрий Менделеев, поэт Михаил Кузмин.
+++
В это время он уже тяжело болен и страдает от мучительных болей в мочевом пузыре. Царский хирург Вельяминов говорит о необходимости операции рака простаты.
20 декабря 1908 года отца Иоанна не стало.
«Душно мне, душно…» – говорил он перед смертью. Как пишет Павел Басинский: «с медицинской точки зрения это была, вероятно, сердечная недостаточность».
+++
Его похоронили в храме-усыпальнице, который он устроил для себя в крипте Иоанновского монастыря на Карповке.
В советское время ее залили бетоном, но тела святого почему-то не тронули.
Жена, Елизавета, называвшая его «брат Иоанн», умерла через полгода после его кончины. В последние месяцы она спала, завернувшись в его подрясник.
Она оставила завещание похоронить себя рядом с мужем в Иоанновом монастыре. Однако Синод ей в этой просьбе посмертно отказал.
(Составлено по материалам книги Павла Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды)
ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ
Знакомясь с жизнью Иоанна Кронштадтского (а до него - и других христиан) подумал, что на самом деле, святые в своей святости исключительно разнообразны (если брать их, конечно, не по приглаженным житиям).
В любом как будто бы обычном, "стандартном" христианском поступке проявляется именно этот человек. Его личность накладывает отпечаток на дело, которое он выполняет. Даже милостыню он подаст по-своему: так, как это не сделает никто, кроме него.
Один разделит свой плащ с нищим пополам, как Мартин Турский. Другой взвалит нищего на плечи и отнесет в свой дом, как Сэмюэл Джонсон. Третий, как о. Иоанн Кронштадтский, возьмёт мешок с деньгами и раздаст их беднякам, которые выстроились в шеренгу перед его домом. Четвертый сдаст младшую сестру на попечение добрым людям, раздаст имение нуждающимся и уйдет в пустыню, как Антоний Великий.
Конечный результат, вроде бы, один, но в каждом случае проявился характер - человек раскрылся перед Богом, выразил полноту своего "я".
Апостол Павел как-то написал: "уже не я живу, но живёт во мне Христос". Мы не сомневаемся, что это так. В тоже время верим, что Он живёт и в Петре, и в Иакове, и в Иоанне.
Но читая послания этих апостолов, мы видим, как по-разному выражается эта жизнь Бога в их сердцах. Каждый из них остаётся самим собой: вспыльчивый Павел, мудрый и неторопливый Иаков, импульсивный Петр, смиренный и любящий Иоанн.
Они - и одинаковые, и разные. Едины во Христе, но исключительно индивидуальны в выражении своего христианства.
Бог не стирает личность человека, но, напротив, помогает ему раскрыть ее в полноте. Он не заменяет человеческое в человеке, но дополняет Собой.
Это наглядно проявляется в евангельском образе Христа - идеального Богочеловека, Который слитно и нераздельно сочетает в Себе Божественный Абсолют Любви и Красоты и яркий человеческий характер.
Изгнание бичом торговцев, повеление смоковнице засохнуть - в этих и многих других поступках и словах Христа проявляется Его Личность. В Ней невозможно разделить Божественное и человеческое, но нельзя и не почувствовать эту бивалентность Его природы.
В конечном счёте каждый из нас призван стать подобным Ему. Соединить несоединимое: безграничное и абсолютное Добро и свое маленькое, но уникальное "я". И в этом наше великое предназначение: мы - часть этого Божественного многообразия.
Мир, созданный великим Художником, не может быть стандартизирован и однообразен.
Знакомясь с жизнью Иоанна Кронштадтского (а до него - и других христиан) подумал, что на самом деле, святые в своей святости исключительно разнообразны (если брать их, конечно, не по приглаженным житиям).
В любом как будто бы обычном, "стандартном" христианском поступке проявляется именно этот человек. Его личность накладывает отпечаток на дело, которое он выполняет. Даже милостыню он подаст по-своему: так, как это не сделает никто, кроме него.
Один разделит свой плащ с нищим пополам, как Мартин Турский. Другой взвалит нищего на плечи и отнесет в свой дом, как Сэмюэл Джонсон. Третий, как о. Иоанн Кронштадтский, возьмёт мешок с деньгами и раздаст их беднякам, которые выстроились в шеренгу перед его домом. Четвертый сдаст младшую сестру на попечение добрым людям, раздаст имение нуждающимся и уйдет в пустыню, как Антоний Великий.
Конечный результат, вроде бы, один, но в каждом случае проявился характер - человек раскрылся перед Богом, выразил полноту своего "я".
Апостол Павел как-то написал: "уже не я живу, но живёт во мне Христос". Мы не сомневаемся, что это так. В тоже время верим, что Он живёт и в Петре, и в Иакове, и в Иоанне.
Но читая послания этих апостолов, мы видим, как по-разному выражается эта жизнь Бога в их сердцах. Каждый из них остаётся самим собой: вспыльчивый Павел, мудрый и неторопливый Иаков, импульсивный Петр, смиренный и любящий Иоанн.
Они - и одинаковые, и разные. Едины во Христе, но исключительно индивидуальны в выражении своего христианства.
Бог не стирает личность человека, но, напротив, помогает ему раскрыть ее в полноте. Он не заменяет человеческое в человеке, но дополняет Собой.
Это наглядно проявляется в евангельском образе Христа - идеального Богочеловека, Который слитно и нераздельно сочетает в Себе Божественный Абсолют Любви и Красоты и яркий человеческий характер.
Изгнание бичом торговцев, повеление смоковнице засохнуть - в этих и многих других поступках и словах Христа проявляется Его Личность. В Ней невозможно разделить Божественное и человеческое, но нельзя и не почувствовать эту бивалентность Его природы.
В конечном счёте каждый из нас призван стать подобным Ему. Соединить несоединимое: безграничное и абсолютное Добро и свое маленькое, но уникальное "я". И в этом наше великое предназначение: мы - часть этого Божественного многообразия.
Мир, созданный великим Художником, не может быть стандартизирован и однообразен.
КАК СОЗДАЮТСЯ ХРИСТИАНСКИЕ МИФЫ
Набрел тут на давнюю историю - массовое убийство в школе "Колумбайн". И неожиданно всплыла тема: как создаются христианские мифы.
Если помните, 20 апреля 1999 г. двое выпускников, вооружившись стрелковым оружием и самодельными бомбами, убили 13 человек, 25 ранили, после чего застрелились.
Сразу же после трагедии в американской прессе появилась история 17-летней Кэсси Бернал.
Один из школьников рассказал, "как мужественно она себя вела, когда убийца направил ей в голову ствол и спросил: «Ты веришь в Бога?» — «Да, — ответила она, — и тебе надо стать на Божий путь». Это были ее последние слова на земле".
История об этой удивительной девочке всколыхнула христианскую Америку. Один известный теолог даже предсказывал, что Кэсси станет первой великомученицей-протестанткой, официально получившей этот титул впервые с XVI века.
Ее мама написала книгу "Она сказала да: невольное мученичество Кэсси Берналл", которая разошлась большим тиражом.
Но ещё до выхода книги полицейские очень деликатно начали советовать матери не педалировать тему мученичества, поскольку материалы расследования не соответствовали первоначальным показаниям свидетеля-школьника. Он ошибся.
Похожий разговор, действительно, был, но участвовала в нем другая девочка - Валин Шнур.
Ее ранили. Стрелявший начал перезаряжать дробовик.
Она молилась: "О Боже, о Боже, о Боже, не дай мне умереть".
"Ты веришь в Бога?" – спросил убийца.
Она замешкалась, боясь неверно ответить. Потом всё-таки сказала: "Да". "Почему?". "Потому что меня так родители воспитали".
Убийца перезарядил оружие, но что-то отвлекло его внимание и он отошел. Девушку прооперировали и она осталась жива.
Школьник-свидетель со своего места не видел, кто разговаривает, слышал только голоса. И спутал.
Зато рядом с убитой Кэсси лежала Эмили Вэйант. Они перешептывались. Кэсси все время повторяла: "Боже, Боже, почему это происходит? Я хочу домой" и молилась.
В какой-то момент один из убийц постучал в крышку стола, под которым они прятались, сказал: "Пикабу" (Ку-ку) и выстрелил. Кэсси умерла мгновенно.
Религиозный культ вокруг ее смерти возник, практически, сразу. Сказать что-то против было просто рисковано. И единственный непосредственный свидетель - Эмили - долго собралась духом. Но она не могла смириться с тем, что из-за ее молчания люди уверуют в ложь.
Тем более, что эта ложь вовсе не была такой уж безобидной. Ее последствия в полной мере испытала на себе реальная героиня - Валин Шнур.
Ее история стала известна лишь на несколько дней позже. И в другой ситуации могла бы стать сенсацией. Хотя, конечно, ее ответ не был столь красочным, как тот, что приписали Кэсси, но все же в девочку стреляли, она не отреклась от веры, и Господь сохранил ей жизнь.
Вместо этого Валин стали воспринимать, как лжемученицу, обманщицу.
"Никто напрямую не подвергал сомнению мой рассказ, – говорит Валин. – Они обходили острые углы. Спрашивали: "А ты уверена, что все именно так произошло?" или "Неужели твоя вера так сильна?".
Слава Кэсси тем временем росла как на дрожжах. Пастор общины, в которую она ходила, отправился в турне по Америке, чтобы поделиться благой вестью о подвиге новомученицы.
"Грузите в Ноев ковчег как можно больше людей", – говорил он.
На этой волне в городе возникла молодежная религиозная группа «Новое поколение». Через четыре месяца она уже имела офисы и подразделения в пятидесяти штатах.
В миссионерских поездках по стране участвовали несколько человек, переживших расстрел. Имя Кэсси как магнитом притягивало девочек-подростков, которые спешили на религиозные мероприятия, как на рок-концерт. Трагедия превращалась в шоу.
По разным причинам материалы расследования не публиковались больше года и даже потом выходили в свет в течение нескольких лет.
За это время мученической славой успели обрести имена ещё двоих подростков - Рэйчел Скотт и Джона Томлина. Причем Рэйчел приписывали те же самые слова, что и Кэсси.
(Окончание ниже)
Набрел тут на давнюю историю - массовое убийство в школе "Колумбайн". И неожиданно всплыла тема: как создаются христианские мифы.
Если помните, 20 апреля 1999 г. двое выпускников, вооружившись стрелковым оружием и самодельными бомбами, убили 13 человек, 25 ранили, после чего застрелились.
Сразу же после трагедии в американской прессе появилась история 17-летней Кэсси Бернал.
Один из школьников рассказал, "как мужественно она себя вела, когда убийца направил ей в голову ствол и спросил: «Ты веришь в Бога?» — «Да, — ответила она, — и тебе надо стать на Божий путь». Это были ее последние слова на земле".
История об этой удивительной девочке всколыхнула христианскую Америку. Один известный теолог даже предсказывал, что Кэсси станет первой великомученицей-протестанткой, официально получившей этот титул впервые с XVI века.
Ее мама написала книгу "Она сказала да: невольное мученичество Кэсси Берналл", которая разошлась большим тиражом.
Но ещё до выхода книги полицейские очень деликатно начали советовать матери не педалировать тему мученичества, поскольку материалы расследования не соответствовали первоначальным показаниям свидетеля-школьника. Он ошибся.
Похожий разговор, действительно, был, но участвовала в нем другая девочка - Валин Шнур.
Ее ранили. Стрелявший начал перезаряжать дробовик.
Она молилась: "О Боже, о Боже, о Боже, не дай мне умереть".
"Ты веришь в Бога?" – спросил убийца.
Она замешкалась, боясь неверно ответить. Потом всё-таки сказала: "Да". "Почему?". "Потому что меня так родители воспитали".
Убийца перезарядил оружие, но что-то отвлекло его внимание и он отошел. Девушку прооперировали и она осталась жива.
Школьник-свидетель со своего места не видел, кто разговаривает, слышал только голоса. И спутал.
Зато рядом с убитой Кэсси лежала Эмили Вэйант. Они перешептывались. Кэсси все время повторяла: "Боже, Боже, почему это происходит? Я хочу домой" и молилась.
В какой-то момент один из убийц постучал в крышку стола, под которым они прятались, сказал: "Пикабу" (Ку-ку) и выстрелил. Кэсси умерла мгновенно.
Религиозный культ вокруг ее смерти возник, практически, сразу. Сказать что-то против было просто рисковано. И единственный непосредственный свидетель - Эмили - долго собралась духом. Но она не могла смириться с тем, что из-за ее молчания люди уверуют в ложь.
Тем более, что эта ложь вовсе не была такой уж безобидной. Ее последствия в полной мере испытала на себе реальная героиня - Валин Шнур.
Ее история стала известна лишь на несколько дней позже. И в другой ситуации могла бы стать сенсацией. Хотя, конечно, ее ответ не был столь красочным, как тот, что приписали Кэсси, но все же в девочку стреляли, она не отреклась от веры, и Господь сохранил ей жизнь.
Вместо этого Валин стали воспринимать, как лжемученицу, обманщицу.
"Никто напрямую не подвергал сомнению мой рассказ, – говорит Валин. – Они обходили острые углы. Спрашивали: "А ты уверена, что все именно так произошло?" или "Неужели твоя вера так сильна?".
Слава Кэсси тем временем росла как на дрожжах. Пастор общины, в которую она ходила, отправился в турне по Америке, чтобы поделиться благой вестью о подвиге новомученицы.
"Грузите в Ноев ковчег как можно больше людей", – говорил он.
На этой волне в городе возникла молодежная религиозная группа «Новое поколение». Через четыре месяца она уже имела офисы и подразделения в пятидесяти штатах.
В миссионерских поездках по стране участвовали несколько человек, переживших расстрел. Имя Кэсси как магнитом притягивало девочек-подростков, которые спешили на религиозные мероприятия, как на рок-концерт. Трагедия превращалась в шоу.
По разным причинам материалы расследования не публиковались больше года и даже потом выходили в свет в течение нескольких лет.
За это время мученической славой успели обрести имена ещё двоих подростков - Рэйчел Скотт и Джона Томлина. Причем Рэйчел приписывали те же самые слова, что и Кэсси.
(Окончание ниже)
(Начало выше)
Конечно со временем все материалы расследования и показания свидетелей были обнародованы. Их легко можно найти в интернете. Вышла и книга, подробно рассказывающая истории всех основных участников этой трагедии.
Вы думаете, это как-то повлияло на созданный миф? Вовсе нет. Даже сейчас на христианских ресурсах можно встретить материалы вроде: "Мученики из школы Columbine".
Хотя время, конечно, вносит свою лепту, и вся эта история постепенно уходит в прошлое вместе с созданными вокруг нее мифами. Благо дело механизма сохранения таких мифов (в виде общецерковных канонизаций) у протестантов, действительно, нет.
Конечно со временем все материалы расследования и показания свидетелей были обнародованы. Их легко можно найти в интернете. Вышла и книга, подробно рассказывающая истории всех основных участников этой трагедии.
Вы думаете, это как-то повлияло на созданный миф? Вовсе нет. Даже сейчас на христианских ресурсах можно встретить материалы вроде: "Мученики из школы Columbine".
Хотя время, конечно, вносит свою лепту, и вся эта история постепенно уходит в прошлое вместе с созданными вокруг нее мифами. Благо дело механизма сохранения таких мифов (в виде общецерковных канонизаций) у протестантов, действительно, нет.
ЦЕРКОВЬ ЖИВА
Оглядываясь назад, я понимаю, что мне, наверное, повезло: я ушел за штат ещё до того, как все развернулось во всей красе.
В какой-то момент я понял, что соучаствовать во всем этом не хочу. Не впустую же мы начинаем каждый свой день с молитвы: "избавь меня от всякого зла мiра сего и от участия в делах дьявольских".
В то же время остаётся вопрос границ этого соучастия. И другой, с ним связанный: поражена ли этим духом вся церковь или только активные "исполнители дел зла".
Из слов апостола Павла: "Если страдает одна часть тела, с ней страдают и остальные" (1Кор. 12:26) вроде бы неизбежно следует, что болезнь поражает всю Церковь одновременно.
Однако, я полагаю, что такое понимание было бы абсурдным. Если один из членов коринфской общины впал в блуд, то вряд ли этот грех автоматически переходит на апостола Павла или римскую общину христиан.
Другое дело, что примирение с грехом, если и не делает его нормой, то весьма снижает моральные планки. А это чревато духовной слепотой.
Почему апостол Павел и требовал изгнать из общины того, кто живёт во грехе и даже гордится им. Рано или поздно каждый из членов коринфской общины задал бы себе этот вопрос: если можно моему брату, то почему нельзя мне?
К сожалению, проблема, которая стоит перед нами, куда сложнее. Слишком распространилась эта болезнь внутри церковного тела. И вопрос стоит не - как избавиться от больной части, а - не заражусь ли я сам, оставаясь внутри. Не сослужу ли я злу?
Для меня это именно вопрос соучастия , а не действительности таинств.
Мы знаем, что таинства совершаются Богом по молитве человека. Да, они происходят внутри Церкви, там, где "двое или трое собраны во Имя Мое". Но я не думаю, что на какой-либо литургии нельзя найти двух-трех человек, ради которых Христос не совершил бы Таинство Евхаристии.
А вот с соучастием сложнее. Достаточно ли внутреннего несогласия со злом внутри Церкви, тихой покаянной молитвы ("лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело" - 1 Коринф. 5:2)? Или молчание - тоже форма соучастия?
"Исправляйте друг друга в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы и тебе не быть искушённым", - говорит апостол. Но это не заповедь, а совет любви.
Многие выбрали путь молчаливого несогласия. А тех, кто пытался "исправлять в духе кротости", большей частью уже нет среди нас. И это молчание в церкви становится оглушительным.
В то же время совместим ли этот выбор с тем, что сказано совершенно определенно:
"Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром?... "И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас" (2 Кор 6:14-17);
"я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе" (1 Кор. 5:11)?
Кстати, а знаете ли вы, что "Велиар" происходит от ивр. בליעל (белияал) — "не имеющий жалости"? Это падший ангел, прекрасный на вид, но свирепый и лицемерный внутри. Можем ли мы оставаться в молчаливом общении с теми, кто им совращен?
С аналогичной проблемой уже сталкивались христиане в начале 20 века, когда часть Русской Церкви во главе с митрополитом Сергием сознательно пошла на служение неприкрыто богоборческой власти.
Те, кто не был с этим согласен, разорвали общение с "сергианцами", создали параллельные церковные общины и большей частью погибли.
Их решение пока так и не осмыслено до конца: слишком мало времени прошло и ещё ничего не закончилось. Некоторые прославлены Церковью, как святые. Некоторые остались в забвении. Можем ли мы видеть в их поступке пример для себя?
Строго говоря, прославлены-то они за мученичество, а не за разрыв. Но без отказа соучаствовать не приняли бы и мученического венца...
У меня нет уверенности, что я знаю универсальный ответ на эти вопросы. Но нет и ощущения безысходности или тупика.
(Окончание ниже)
Оглядываясь назад, я понимаю, что мне, наверное, повезло: я ушел за штат ещё до того, как все развернулось во всей красе.
В какой-то момент я понял, что соучаствовать во всем этом не хочу. Не впустую же мы начинаем каждый свой день с молитвы: "избавь меня от всякого зла мiра сего и от участия в делах дьявольских".
В то же время остаётся вопрос границ этого соучастия. И другой, с ним связанный: поражена ли этим духом вся церковь или только активные "исполнители дел зла".
Из слов апостола Павла: "Если страдает одна часть тела, с ней страдают и остальные" (1Кор. 12:26) вроде бы неизбежно следует, что болезнь поражает всю Церковь одновременно.
Однако, я полагаю, что такое понимание было бы абсурдным. Если один из членов коринфской общины впал в блуд, то вряд ли этот грех автоматически переходит на апостола Павла или римскую общину христиан.
Другое дело, что примирение с грехом, если и не делает его нормой, то весьма снижает моральные планки. А это чревато духовной слепотой.
Почему апостол Павел и требовал изгнать из общины того, кто живёт во грехе и даже гордится им. Рано или поздно каждый из членов коринфской общины задал бы себе этот вопрос: если можно моему брату, то почему нельзя мне?
К сожалению, проблема, которая стоит перед нами, куда сложнее. Слишком распространилась эта болезнь внутри церковного тела. И вопрос стоит не - как избавиться от больной части, а - не заражусь ли я сам, оставаясь внутри. Не сослужу ли я злу?
Для меня это именно вопрос соучастия , а не действительности таинств.
Мы знаем, что таинства совершаются Богом по молитве человека. Да, они происходят внутри Церкви, там, где "двое или трое собраны во Имя Мое". Но я не думаю, что на какой-либо литургии нельзя найти двух-трех человек, ради которых Христос не совершил бы Таинство Евхаристии.
А вот с соучастием сложнее. Достаточно ли внутреннего несогласия со злом внутри Церкви, тихой покаянной молитвы ("лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело" - 1 Коринф. 5:2)? Или молчание - тоже форма соучастия?
"Исправляйте друг друга в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы и тебе не быть искушённым", - говорит апостол. Но это не заповедь, а совет любви.
Многие выбрали путь молчаливого несогласия. А тех, кто пытался "исправлять в духе кротости", большей частью уже нет среди нас. И это молчание в церкви становится оглушительным.
В то же время совместим ли этот выбор с тем, что сказано совершенно определенно:
"Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром?... "И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас" (2 Кор 6:14-17);
"я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе" (1 Кор. 5:11)?
Кстати, а знаете ли вы, что "Велиар" происходит от ивр. בליעל (белияал) — "не имеющий жалости"? Это падший ангел, прекрасный на вид, но свирепый и лицемерный внутри. Можем ли мы оставаться в молчаливом общении с теми, кто им совращен?
С аналогичной проблемой уже сталкивались христиане в начале 20 века, когда часть Русской Церкви во главе с митрополитом Сергием сознательно пошла на служение неприкрыто богоборческой власти.
Те, кто не был с этим согласен, разорвали общение с "сергианцами", создали параллельные церковные общины и большей частью погибли.
Их решение пока так и не осмыслено до конца: слишком мало времени прошло и ещё ничего не закончилось. Некоторые прославлены Церковью, как святые. Некоторые остались в забвении. Можем ли мы видеть в их поступке пример для себя?
Строго говоря, прославлены-то они за мученичество, а не за разрыв. Но без отказа соучаствовать не приняли бы и мученического венца...
У меня нет уверенности, что я знаю универсальный ответ на эти вопросы. Но нет и ощущения безысходности или тупика.
(Окончание ниже)
(Начало выше)
Да, церковь больна и мы пока не понимаем, что нам (лично каждому) с этим делать. Где лекарство и почему не приходит Врач?
Но вместе с тем есть и какое-то чувство, которому трудно дать название. Упование? Надежда?
Оно проглядывает даже в словах апостола Павла, которые я уже приводил выше:
"Если страдает одна часть тела, с ней страдают и остальные, а если прославляется одна часть, с ней радуются и остальные" (1Кор. 12:26).
Всё и все в Церкви взаимосвязаны. Болезнь одного отражается на всех, но и чистота, праведность, святость не проходит без следа: крохотный кусочек дрожжей заквашивает все тесто. И пока хотя бы кто-то из нас не смиряется с беззаконием, Церковь жива.
Да, церковь больна и мы пока не понимаем, что нам (лично каждому) с этим делать. Где лекарство и почему не приходит Врач?
Но вместе с тем есть и какое-то чувство, которому трудно дать название. Упование? Надежда?
Оно проглядывает даже в словах апостола Павла, которые я уже приводил выше:
"Если страдает одна часть тела, с ней страдают и остальные, а если прославляется одна часть, с ней радуются и остальные" (1Кор. 12:26).
Всё и все в Церкви взаимосвязаны. Болезнь одного отражается на всех, но и чистота, праведность, святость не проходит без следа: крохотный кусочек дрожжей заквашивает все тесто. И пока хотя бы кто-то из нас не смиряется с беззаконием, Церковь жива.
БЫЛ ЛИ ХРИСТОС "ВНЕ ПОЛИТИКИ"?
Один из любимых тезисов церковных функционеров: "Церковь не должна вмешиваться в политику".
Звучит, вроде бы, правильно: Церковь - о вечном, а политика - о сиюминутном. Но на самом деле, это не более, чем иллюзия.
Политика - "одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы".
Жизнь любого человека, в том числе и христианина проходит внутри общества. И так или иначе его поведение (стиль жизни, цели, устремления) отражается и на его ближайшем окружении, и на обществе в целом.
Достаточно одного стремления жить по Евангелию (для Небесного Царства, а не земного), чтобы это задело чьи-то интересы.
У христиан нет необходимости вмешиваться в политику, вот только она не может не вмешиваться в христианскую жизнь.
И оценка наших христианских поступков как политических или не политических зависит, на самом деле, от угла зрения.
Был ли Иисус Христос вне политики? С точки зрения Христа и его учеников - несомненно. Его цели были куда грандиозней.
Но была ли Его жизнь, проповедь - фактором, влияющим на чьи-то политические расклады? Несомненно. Именно так видели Его деятельность иудейские власти, старейшины и Пилат.
Из политических соображений царь Ирод искал души Младенца: опасаясь потерять власть.
Из политических соображений первосвященники предали Его на казнь: "придут римляне и овладеют и местом нашим и народом".
Из политических соображений Пилат отдал приказ о распятии: "или ты не друг Кесарю?".
Всеми ими руководили шкурные интересы? Так и это часть политики.
Принято считать, что первые христиане страдали за веру. Это взгляд со стороны жертвы - самих христиан, которые вовсе не собирались устраивать переворотов в Римской империи, а искали лишь спасения - жизни вечной.
Однако римские власти отнюдь не всегда вменяли им в вину sacrilegium, преступление против веры. Как пишет Болотов, многие стороны христианского поведения квалифицировались, "как crimen laesae majestatis, преступление против государства" (в частности, отказ от воинской службы, но не только это).
Какой характер носила борьба Афанасия Великого? Казалось бы странный вопрос: он же боролся с ересью арианства.
Ну, а императоры считали, что он подрывает государственные устои, разрушая "единство Церкви". Именно за это Константин Великий сослал его в Трир. И солдаты императора Констанция ловили его в египетской пустыне, как диссидента, бунтаря, государственного преступника, а вовсе не "борца с ересью".
Чем сильнее стремление христиан к евангельскому идеалу, чем ярче огонь любви и веры, тем неизбежнее их конфликт с интересами "сильных мира сего". И во многих случаях сложно сказать: религиозный или политический характер он носит.
К примеру, известный случай, когда Амвросий Медиоланский отлучил от причастия императора Феодосия Великого за то, что тот отдал приказ уничтожить 7 тысяч безоружных жителей Салоник, устроивших волнения в городе.
С христианской точки зрения св. Амвросий заботился о душе императора и о защите его подданных от царского произвола. И великий император, видимо, согласился с епископом.
Но в абсолютно аналогичной ситуации, когда митрополит Филипп обличил царя Иоанна Грозного за убийства, грабежи и насилие над невинными подданными, царь счёл это за измену и расправился со святителем.
И церковный суд не только послушно согласился с царем, но и Троицкий архимандрит Кирилл, избранный на смену Филиппу, не счёл зазорным занять его место.
Религиозный или политический характер носило противостояние св. Иоанна Златоуста с императрицей Евдоксией? Когда он обличал ее тщеславие, ее попытку отобрать имущество у жены казнённого сенатора, протестовал против статуи императрицы, которую она решили поставить себе уже при жизни? Когда отказался по требованию императора покинуть свою епископскую кафедру и кафедральный собор?
(Окончание ниже)
Один из любимых тезисов церковных функционеров: "Церковь не должна вмешиваться в политику".
Звучит, вроде бы, правильно: Церковь - о вечном, а политика - о сиюминутном. Но на самом деле, это не более, чем иллюзия.
Политика - "одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы".
Жизнь любого человека, в том числе и христианина проходит внутри общества. И так или иначе его поведение (стиль жизни, цели, устремления) отражается и на его ближайшем окружении, и на обществе в целом.
Достаточно одного стремления жить по Евангелию (для Небесного Царства, а не земного), чтобы это задело чьи-то интересы.
У христиан нет необходимости вмешиваться в политику, вот только она не может не вмешиваться в христианскую жизнь.
И оценка наших христианских поступков как политических или не политических зависит, на самом деле, от угла зрения.
Был ли Иисус Христос вне политики? С точки зрения Христа и его учеников - несомненно. Его цели были куда грандиозней.
Но была ли Его жизнь, проповедь - фактором, влияющим на чьи-то политические расклады? Несомненно. Именно так видели Его деятельность иудейские власти, старейшины и Пилат.
Из политических соображений царь Ирод искал души Младенца: опасаясь потерять власть.
Из политических соображений первосвященники предали Его на казнь: "придут римляне и овладеют и местом нашим и народом".
Из политических соображений Пилат отдал приказ о распятии: "или ты не друг Кесарю?".
Всеми ими руководили шкурные интересы? Так и это часть политики.
Принято считать, что первые христиане страдали за веру. Это взгляд со стороны жертвы - самих христиан, которые вовсе не собирались устраивать переворотов в Римской империи, а искали лишь спасения - жизни вечной.
Однако римские власти отнюдь не всегда вменяли им в вину sacrilegium, преступление против веры. Как пишет Болотов, многие стороны христианского поведения квалифицировались, "как crimen laesae majestatis, преступление против государства" (в частности, отказ от воинской службы, но не только это).
Какой характер носила борьба Афанасия Великого? Казалось бы странный вопрос: он же боролся с ересью арианства.
Ну, а императоры считали, что он подрывает государственные устои, разрушая "единство Церкви". Именно за это Константин Великий сослал его в Трир. И солдаты императора Констанция ловили его в египетской пустыне, как диссидента, бунтаря, государственного преступника, а вовсе не "борца с ересью".
Чем сильнее стремление христиан к евангельскому идеалу, чем ярче огонь любви и веры, тем неизбежнее их конфликт с интересами "сильных мира сего". И во многих случаях сложно сказать: религиозный или политический характер он носит.
К примеру, известный случай, когда Амвросий Медиоланский отлучил от причастия императора Феодосия Великого за то, что тот отдал приказ уничтожить 7 тысяч безоружных жителей Салоник, устроивших волнения в городе.
С христианской точки зрения св. Амвросий заботился о душе императора и о защите его подданных от царского произвола. И великий император, видимо, согласился с епископом.
Но в абсолютно аналогичной ситуации, когда митрополит Филипп обличил царя Иоанна Грозного за убийства, грабежи и насилие над невинными подданными, царь счёл это за измену и расправился со святителем.
И церковный суд не только послушно согласился с царем, но и Троицкий архимандрит Кирилл, избранный на смену Филиппу, не счёл зазорным занять его место.
Религиозный или политический характер носило противостояние св. Иоанна Златоуста с императрицей Евдоксией? Когда он обличал ее тщеславие, ее попытку отобрать имущество у жены казнённого сенатора, протестовал против статуи императрицы, которую она решили поставить себе уже при жизни? Когда отказался по требованию императора покинуть свою епископскую кафедру и кафедральный собор?
(Окончание ниже)
(Начало выше)
С религиозной точки зрения, св. Иоанн действует так, как подсказывает ему христианская совесть. Но церковный суд приговаривает его к казни по обвинению в государственном преступлении - crimen laesae majestatis, оскорблении величества (император заменяет казнь изгнанием).
Эти примеры можно приводить бесконечно. Кого из российских новомучеников в XX веке осудили по религиозным мотивам? Десятки тысяч верующих, хранивших верность Христу, формально были осуждены и казнены за государственные преступления: измену Родине, контрреволюционную деятельность и т.п.
И также, как во времена Иоанна Златоуста или митрополита Филиппа, дрожавшая от страха кучка церковных иерархов плевала на их могилы, называя предателями и утверждая, что религиозных гонений в советской империи нет. И разве эта их позиция, как и позиция епископов, судивших Иоанна Златоуста, не носила политический характер?
Может ли христианин полностью отстраниться от мира, в котором живёт? Или всё-таки выбор для нас состоит в том, какую сторону мы выбираем? Кто мы - гонители или жертва?
С религиозной точки зрения, св. Иоанн действует так, как подсказывает ему христианская совесть. Но церковный суд приговаривает его к казни по обвинению в государственном преступлении - crimen laesae majestatis, оскорблении величества (император заменяет казнь изгнанием).
Эти примеры можно приводить бесконечно. Кого из российских новомучеников в XX веке осудили по религиозным мотивам? Десятки тысяч верующих, хранивших верность Христу, формально были осуждены и казнены за государственные преступления: измену Родине, контрреволюционную деятельность и т.п.
И также, как во времена Иоанна Златоуста или митрополита Филиппа, дрожавшая от страха кучка церковных иерархов плевала на их могилы, называя предателями и утверждая, что религиозных гонений в советской империи нет. И разве эта их позиция, как и позиция епископов, судивших Иоанна Златоуста, не носила политический характер?
Может ли христианин полностью отстраниться от мира, в котором живёт? Или всё-таки выбор для нас состоит в том, какую сторону мы выбираем? Кто мы - гонители или жертва?
Всё-таки, как удивительно просто выглядит вопрос о спасении в представлении апостола Павла:
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению" (Рим. 10:9-10).
Апостол уверен, что праведность достигается искренним сердечным принятием Благой Вести, а спасение - твердым исповеданием Христа перед людьми (особенно перед Его врагами; ср. Мф 10:32).
Ни слова о каких-то нарочитых аскетических подвигах, ни длинного списка непременных условий, при которых возможно спасение. Напротив, эти слова написаны именно для того, чтобы подчеркнуть: путь к Богу открыт каждому - "и эллину, и иудею". Каждому, кто уверует в Воскресшего Христа и исповедует Его Сыном Божиим и своим Господином.
Впрочем, а разве Сам Христос говорит что-то иное?
"Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь" (Ин 5:24).
Ни слова о посмертных мытарствах, ни рассуждений о "спасительных и гибельных" конфессиях, ни мучительных сомнений о посмертной участи души.
Все сказано просто и недвусмысленно: слушающий и принимающий слова Христа, сделавший Его учение предметом своей веры, уже здесь на земле имеет жизнь вечную (ср. Ин 4:14, 36) и, освобождаясь от суда (осуждения на смерть, которое несут в себе потомки Адама), переходит из смерти в жизнь.
"Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся" (Иоиля 2:32) и "Верующий в Него не постыдится" (Ис. 28:16).
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению" (Рим. 10:9-10).
Апостол уверен, что праведность достигается искренним сердечным принятием Благой Вести, а спасение - твердым исповеданием Христа перед людьми (особенно перед Его врагами; ср. Мф 10:32).
Ни слова о каких-то нарочитых аскетических подвигах, ни длинного списка непременных условий, при которых возможно спасение. Напротив, эти слова написаны именно для того, чтобы подчеркнуть: путь к Богу открыт каждому - "и эллину, и иудею". Каждому, кто уверует в Воскресшего Христа и исповедует Его Сыном Божиим и своим Господином.
Впрочем, а разве Сам Христос говорит что-то иное?
"Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь" (Ин 5:24).
Ни слова о посмертных мытарствах, ни рассуждений о "спасительных и гибельных" конфессиях, ни мучительных сомнений о посмертной участи души.
Все сказано просто и недвусмысленно: слушающий и принимающий слова Христа, сделавший Его учение предметом своей веры, уже здесь на земле имеет жизнь вечную (ср. Ин 4:14, 36) и, освобождаясь от суда (осуждения на смерть, которое несут в себе потомки Адама), переходит из смерти в жизнь.
"Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся" (Иоиля 2:32) и "Верующий в Него не постыдится" (Ис. 28:16).
МИЛОСТЬ ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
Подумал, каким неожиданным образом Господь может иногда исполнять некоторые наши просьбы. Так что, бывает, и не поймешь - милость это или наказание.
1. У одной знакомой сильно пил муж. И ничего не помогало. Допивался до белой горячки.
И начала она очень усердно молиться, чтобы Господь его избавил от этой напасти.
Молилась-молилась. И вдруг у него ноги отнялись. Ну, и вообще, частично парализовало.
Пить он теперь не пьет. То есть он, конечно, и хотел бы, но сам до магазина дойти не может, а жена не покупает. Так что ее молитва, несомненно, исполнилась. Правда, и хлопот прибавилось.
2. После ранней смерти мужа у женщины на воспитании остался 15-летний сын.
И как часто бывает: перестал слушать мать, начал прогуливать школу, болтаться где-то по ночам с друзьями - дискотеки, выпивка и т.п.
Само собой, мать это очень расстраивало, а сделать с ним она ничего не могла.
Начала молиться сама. Потом знакомую монахиню подключила. Так что в конце концов за него чуть ли не целый монастырь уже молился.
И, действительно, помогло. Однажды ночью в укромном месте его кто-то сзади по голове бутылкой ударил. Просто так. Без всякого повода.
Обошлось без тяжёлых последствий. Рану зашили. Сотрясение мозга прошло. В ангела подросток, конечно, не превратился, но желание болтаться по ночам как рукой сняло.
3. Один 30-летний наркоман начал тяготиться своим пристрастием и образом жизни.
Занесло его как-то к пятидесятникам. Послушал проповедь, начал с ними молиться, читать Евангелие. А наркоту бросить все-равно не мог.
Как-то стало ему совсем уж невмоготу и начал он просить Бога о помощи.
А через какой-то совсем короткий срок прихватывают его по криминальной статье. И на что своей силы воли не хватало, пришлось делать уже по необходимости.
А тут ещё в палате тюремной больницы вместе с ним оказался старичок-богомол. Хотите верьте - хотите нет, он этого наркомана начал сердечной молитве учить. А сокамерник подсунул молитвослов на русском.
Переписал этот бывший наркоман утренние и вечерние молитвы, начал читать правила, как положено (благо, чего-чего, а свободного времени в СИЗО хватает). А в какой-то момент и свои молитвы стал сочинять. И даже стихами.
Чем закончится эта история не знаю, но просимое он несомненно уже получил.
+++
Подумалось, что все эти случаи объединяет одна черта. Бога просили сделать то, с чем люди должны были бы справиться сами. По сути, просили лишить их свободы выбора, подменить их волю - Своей. И не просто подменить, но и переломить.
Думаю, именно поэтому и цена оказалась так высока, и полученное так неоднозначно.
Впрочем, когда зло глубоко проникло в сердце, избавиться от него без боли, наверное, невозможно. Как писал архиепископ Лука Войно-Ясенецкий:
"Зло, в том числе в самой душе человека, не отойдет добровольно и тот, кто вышел на борьбу с ним, никогда не избежит страдания".
Подумал, каким неожиданным образом Господь может иногда исполнять некоторые наши просьбы. Так что, бывает, и не поймешь - милость это или наказание.
1. У одной знакомой сильно пил муж. И ничего не помогало. Допивался до белой горячки.
И начала она очень усердно молиться, чтобы Господь его избавил от этой напасти.
Молилась-молилась. И вдруг у него ноги отнялись. Ну, и вообще, частично парализовало.
Пить он теперь не пьет. То есть он, конечно, и хотел бы, но сам до магазина дойти не может, а жена не покупает. Так что ее молитва, несомненно, исполнилась. Правда, и хлопот прибавилось.
2. После ранней смерти мужа у женщины на воспитании остался 15-летний сын.
И как часто бывает: перестал слушать мать, начал прогуливать школу, болтаться где-то по ночам с друзьями - дискотеки, выпивка и т.п.
Само собой, мать это очень расстраивало, а сделать с ним она ничего не могла.
Начала молиться сама. Потом знакомую монахиню подключила. Так что в конце концов за него чуть ли не целый монастырь уже молился.
И, действительно, помогло. Однажды ночью в укромном месте его кто-то сзади по голове бутылкой ударил. Просто так. Без всякого повода.
Обошлось без тяжёлых последствий. Рану зашили. Сотрясение мозга прошло. В ангела подросток, конечно, не превратился, но желание болтаться по ночам как рукой сняло.
3. Один 30-летний наркоман начал тяготиться своим пристрастием и образом жизни.
Занесло его как-то к пятидесятникам. Послушал проповедь, начал с ними молиться, читать Евангелие. А наркоту бросить все-равно не мог.
Как-то стало ему совсем уж невмоготу и начал он просить Бога о помощи.
А через какой-то совсем короткий срок прихватывают его по криминальной статье. И на что своей силы воли не хватало, пришлось делать уже по необходимости.
А тут ещё в палате тюремной больницы вместе с ним оказался старичок-богомол. Хотите верьте - хотите нет, он этого наркомана начал сердечной молитве учить. А сокамерник подсунул молитвослов на русском.
Переписал этот бывший наркоман утренние и вечерние молитвы, начал читать правила, как положено (благо, чего-чего, а свободного времени в СИЗО хватает). А в какой-то момент и свои молитвы стал сочинять. И даже стихами.
Чем закончится эта история не знаю, но просимое он несомненно уже получил.
+++
Подумалось, что все эти случаи объединяет одна черта. Бога просили сделать то, с чем люди должны были бы справиться сами. По сути, просили лишить их свободы выбора, подменить их волю - Своей. И не просто подменить, но и переломить.
Думаю, именно поэтому и цена оказалась так высока, и полученное так неоднозначно.
Впрочем, когда зло глубоко проникло в сердце, избавиться от него без боли, наверное, невозможно. Как писал архиепископ Лука Войно-Ясенецкий:
"Зло, в том числе в самой душе человека, не отойдет добровольно и тот, кто вышел на борьбу с ним, никогда не избежит страдания".
О «ТОРГОВЛЕ БЛАГОДАТЬЮ»
«Во многих храмах действует определенный “прейскурант цен”, и заказать какую-либо требу можно, лишь уплатив означенную в нем сумму.
В храме, таким образом, идет открытая торговля, только вместо обычного продается “духовный товар”, то есть, не побоюсь сказать прямо, – благодать Божия.
При этом ссылаются на тексты Священного Писания о том, что труждающийся достоин пропитания, что священники питаются от алтаря и т. п.
Но при этом совершается бессовестная подмена, так как в Священном Писании говорится о том пропитании, которое составляется из добровольных пожертвований верующего народа, и никогда и нигде не говорится о “духовной торговле”. Напротив, Господь наш Иисус Христос ясно говорит: Даром получили, даром давайте (Мф.10:8)».
Как Вы полагаете, кому из церковных диссидентов принадлежат эти слова?
Их произнес патриарх Алексий II на Московском епархиальном собрании в 2004 г.
1.
На фоне нынешних церковных проблем тема торговли в храмах отошла на второй план. Но полагаю, в духовном смысле всё это - явления одного порядка.
Не случайным мне кажется и то, что борьба с этим тяжким извращением церковной жизни, которую начал патриарх Алексий II, быстро сошла на нет при его преемнике Кирилле.
Об этой борьбе и ее финале сейчас мало кто помнит даже среди духовенства. А между тем, это - одна из существенных и немаловажных деталей образа новой «кирилловской» церкви, позаимствовавшей все худшее из церкви советской («сергианской»). К числу заимствований относится и торговля в храмах - плата за свечи и требы.
На том же собрании клириков Московской епархии патриарх Алексий II, сказал:
«Сегодняшняя практика “церковной торговли” возникла после 1961 года, когда контроль за материальным состоянием храма был полностью передан в ведение “исполнительного органа”, чей состав формировался властями. Эти времена, к счастью, прошли, а злая привычка “торговать” требами осталась».
То, что сейчас воспринимается, как нечто привычное, «ортодоксальное», на самом деле, было введено коммунистами, как один из способов борьбы с церковью и источник дополнительных средств для нужд компартии.
27 апреля 1961 года создается Советский Фонд Мира (негласно финансировавший коммунистические и просоветские движения по всему миру).
Одновременно власти проводят церковную реорганизацию. Вот, как вспоминает об этом протоиерей Владимир Сорокин:
«В 1961 году приняли церковный устав, по которому настоятель лишался права быть председателем приходского совета, он мог только совершать богослужения. А на приходах всем руководили старосты, которые назначались уполномоченными.
Тогда все средства стали перечислять в Фонд мира, оставляли только деньги, из которых платили зарплату. Храмы не ремонтировались, не реставрировались. Хрущёву... внушали, что очень скоро удастся с Церковью покончить».
Считается, что в Фонд мира уходило 90% церковных доходов. Для того, чтобы четко представлять их размеры, и были введены ценники на требы и свечи. На продукцию свечных заводов также установили фиксированную цену.
«Для Московской свечной мастерской этот закон обернулся увеличением общей суммы налогов на 1033%... так что, покупая свечи, верующие жертвовали не церкви, а государству».
С теми же целями – увеличение доходов от налогообложения церкви и ее физическое уничтожение - в 1962 году была введена регистрация треб. Крещение, отпевание или венчание стали совершаться только по предъявлению паспорта. Сведения о родителях, крестивших ребенка, сообщались по месту работы, что грозило серьезными неприятностями.
В постсоветское время налоги на церковные доходы были отменены, зато остались сами доходы и механизм, с помощью которого они добывались. Остался и дух наживы, который вошел в церковное тело и прочно поселился в нем. Борьбу с ним и начал патриарх Алексий II.
«Торговлю благодатью» он называл одним из самых ярких проявлений неоязычества в церковной жизни. Тем, что надолго, если не навсегда, «отталкивает от храма, внушает презрение к алчному духовенству.
(Продолжение ниже)
«Во многих храмах действует определенный “прейскурант цен”, и заказать какую-либо требу можно, лишь уплатив означенную в нем сумму.
В храме, таким образом, идет открытая торговля, только вместо обычного продается “духовный товар”, то есть, не побоюсь сказать прямо, – благодать Божия.
При этом ссылаются на тексты Священного Писания о том, что труждающийся достоин пропитания, что священники питаются от алтаря и т. п.
Но при этом совершается бессовестная подмена, так как в Священном Писании говорится о том пропитании, которое составляется из добровольных пожертвований верующего народа, и никогда и нигде не говорится о “духовной торговле”. Напротив, Господь наш Иисус Христос ясно говорит: Даром получили, даром давайте (Мф.10:8)».
Как Вы полагаете, кому из церковных диссидентов принадлежат эти слова?
Их произнес патриарх Алексий II на Московском епархиальном собрании в 2004 г.
1.
На фоне нынешних церковных проблем тема торговли в храмах отошла на второй план. Но полагаю, в духовном смысле всё это - явления одного порядка.
Не случайным мне кажется и то, что борьба с этим тяжким извращением церковной жизни, которую начал патриарх Алексий II, быстро сошла на нет при его преемнике Кирилле.
Об этой борьбе и ее финале сейчас мало кто помнит даже среди духовенства. А между тем, это - одна из существенных и немаловажных деталей образа новой «кирилловской» церкви, позаимствовавшей все худшее из церкви советской («сергианской»). К числу заимствований относится и торговля в храмах - плата за свечи и требы.
На том же собрании клириков Московской епархии патриарх Алексий II, сказал:
«Сегодняшняя практика “церковной торговли” возникла после 1961 года, когда контроль за материальным состоянием храма был полностью передан в ведение “исполнительного органа”, чей состав формировался властями. Эти времена, к счастью, прошли, а злая привычка “торговать” требами осталась».
То, что сейчас воспринимается, как нечто привычное, «ортодоксальное», на самом деле, было введено коммунистами, как один из способов борьбы с церковью и источник дополнительных средств для нужд компартии.
27 апреля 1961 года создается Советский Фонд Мира (негласно финансировавший коммунистические и просоветские движения по всему миру).
Одновременно власти проводят церковную реорганизацию. Вот, как вспоминает об этом протоиерей Владимир Сорокин:
«В 1961 году приняли церковный устав, по которому настоятель лишался права быть председателем приходского совета, он мог только совершать богослужения. А на приходах всем руководили старосты, которые назначались уполномоченными.
Тогда все средства стали перечислять в Фонд мира, оставляли только деньги, из которых платили зарплату. Храмы не ремонтировались, не реставрировались. Хрущёву... внушали, что очень скоро удастся с Церковью покончить».
Считается, что в Фонд мира уходило 90% церковных доходов. Для того, чтобы четко представлять их размеры, и были введены ценники на требы и свечи. На продукцию свечных заводов также установили фиксированную цену.
«Для Московской свечной мастерской этот закон обернулся увеличением общей суммы налогов на 1033%... так что, покупая свечи, верующие жертвовали не церкви, а государству».
С теми же целями – увеличение доходов от налогообложения церкви и ее физическое уничтожение - в 1962 году была введена регистрация треб. Крещение, отпевание или венчание стали совершаться только по предъявлению паспорта. Сведения о родителях, крестивших ребенка, сообщались по месту работы, что грозило серьезными неприятностями.
В постсоветское время налоги на церковные доходы были отменены, зато остались сами доходы и механизм, с помощью которого они добывались. Остался и дух наживы, который вошел в церковное тело и прочно поселился в нем. Борьбу с ним и начал патриарх Алексий II.
«Торговлю благодатью» он называл одним из самых ярких проявлений неоязычества в церковной жизни. Тем, что надолго, если не навсегда, «отталкивает от храма, внушает презрение к алчному духовенству.
(Продолжение ниже)
(Начало выше)
Церковь — это не магазин духовных товаров, здесь недопустима “торговля благодатью”» (Епархиальное собрание 1998 г.).
Эту позицию Патриарх последовательно (и достаточно безуспешно) пытался воплотить в жизнь. Он вразумлял своих клириков на собраниях и, в конце концов, в 2008 г. (незадолго до смерти) прямо выпустил указ о запрете ценников не то, что на требы, но даже на церковную продукцию, распространяемую на православных ярмарках: никаких ценников – допустима только надпись «на добровольные пожертвования».
На сомнения «Как выжить? Как платить зарплату? и т.п.» он отвечал:
«Несмотря на церковную нужду, необходимо находить такие формы принятия пожертвований, которые не будут производить на пришедшего в храм впечатления, что здесь магазин духовных товаров и все продается за деньги» (Епархиальное собрание 1997 г.).
«Такса» за совершение треб по благословению патриарха была отменена в некоторых московских храмах еще в 2003 году. Пытались распространить эту практику и на остальные храмы РПЦ.
О том, какова в своей массе была реакция духовенства, можно судить по характерной истории. После того, как в одном из храмов Краснодарского края настоятель убрал ценники, окрестные батюшки начали писать жалобы архиерею и благочинным, что этим он «отбивает у них клиентов».
Парадоксальнее всего, что решение отказаться от торговли благодатью и предать заботу о себе и своем храме в руки Божии даже в чисто практическом земном смысле всегда оказывалось самым верным.
«В ответ на бескорыстный, самоотверженный подвиг священника-пастыря, - говорил патриарх Алексий II, - благодарный народ сам принесет ему все необходимое и в количестве гораздо большем, чем “наторгует” наемник в своем храме, превращенном в торговую лавку.
Народ поможет благоговейному священнику, в котором он узнает любящего отца, ремонтировать храм. Господь пошлет ему добрых жертвователей и помощников и через него обратит к вере и спасет тысячи людей».
Настоятель одного из храмов Северодонецка, говорил, что после того, как они убрали ценники, доход храма вырос в три раза:
«Через неделю после снятия ценников заходит один человек, очень удивился отсутствием цен и спросил в чем мы нуждаемся, о чем мечтаем. Я ответил, что хотелось бы храм расписать, но средств нет. Он ответил: “Расписывайте, я оплачу”».
Сталкивались мы с этим и в нашем храме в деревне Карабаново Красносельского района.
Я пришел туда в 2015 г. Еще прежний настоятель, о. Георгий Эдельштейн, убрал как ценники на требы, свечи и иконы, так и человека, сидящего в церковной лавке и контролирующего «денежный поток».
Стоял металлический ящик для пожертвований и каждый опускал туда, сколько мог и хотел. Без всякого контроля.
Наш храм расположен в крошечной деревне за 30 километров от Костромы и за 25 км. от Красного-на-Волге. И люди ездили к нам издалека и на службы, и на требы, чаще всего именно потому, что здесь не чувствовали себя «кошельком на ножках».
Да, разбогатеть таким образом сложно. Были случаи, когда пожертвование за крещение не покрывало даже оплату бензина на проезд до храма. Кто-то жертвовал 200 рублей, кто-то - пять тысяч. Но этого хватало не только на зарплату двум священникам (что уже огромная редкость для маленькой деревенской церкви).
Мы позолотили купола, отремонтировали колокольню, сменили газовый котел, написали иконы для иконостаса. И все это делалось не на «доходы от торговли», а на «жертву добрых и щедрых сердец».
2.
Любые торговые сделки в церкви неканоничны: касается ли это прямой торговли благодатью или продажи мелких товаров – свечей, икон, книг и проч.
76 правило VI Вселенского собора прямо подвергает анафеме тех, кто устраивает торговлю в храме. Обычно обращают внимание на запрет на устроение харчевен и продажу съестного, однако в тексте есть и такие слова: «производить другого рода мелочную торговлю». Именно в этот разряд «необходимых мелочей» и попадает все, чем торгуют церковные лавки.
(Окончание ниже)
Церковь — это не магазин духовных товаров, здесь недопустима “торговля благодатью”» (Епархиальное собрание 1998 г.).
Эту позицию Патриарх последовательно (и достаточно безуспешно) пытался воплотить в жизнь. Он вразумлял своих клириков на собраниях и, в конце концов, в 2008 г. (незадолго до смерти) прямо выпустил указ о запрете ценников не то, что на требы, но даже на церковную продукцию, распространяемую на православных ярмарках: никаких ценников – допустима только надпись «на добровольные пожертвования».
На сомнения «Как выжить? Как платить зарплату? и т.п.» он отвечал:
«Несмотря на церковную нужду, необходимо находить такие формы принятия пожертвований, которые не будут производить на пришедшего в храм впечатления, что здесь магазин духовных товаров и все продается за деньги» (Епархиальное собрание 1997 г.).
«Такса» за совершение треб по благословению патриарха была отменена в некоторых московских храмах еще в 2003 году. Пытались распространить эту практику и на остальные храмы РПЦ.
О том, какова в своей массе была реакция духовенства, можно судить по характерной истории. После того, как в одном из храмов Краснодарского края настоятель убрал ценники, окрестные батюшки начали писать жалобы архиерею и благочинным, что этим он «отбивает у них клиентов».
Парадоксальнее всего, что решение отказаться от торговли благодатью и предать заботу о себе и своем храме в руки Божии даже в чисто практическом земном смысле всегда оказывалось самым верным.
«В ответ на бескорыстный, самоотверженный подвиг священника-пастыря, - говорил патриарх Алексий II, - благодарный народ сам принесет ему все необходимое и в количестве гораздо большем, чем “наторгует” наемник в своем храме, превращенном в торговую лавку.
Народ поможет благоговейному священнику, в котором он узнает любящего отца, ремонтировать храм. Господь пошлет ему добрых жертвователей и помощников и через него обратит к вере и спасет тысячи людей».
Настоятель одного из храмов Северодонецка, говорил, что после того, как они убрали ценники, доход храма вырос в три раза:
«Через неделю после снятия ценников заходит один человек, очень удивился отсутствием цен и спросил в чем мы нуждаемся, о чем мечтаем. Я ответил, что хотелось бы храм расписать, но средств нет. Он ответил: “Расписывайте, я оплачу”».
Сталкивались мы с этим и в нашем храме в деревне Карабаново Красносельского района.
Я пришел туда в 2015 г. Еще прежний настоятель, о. Георгий Эдельштейн, убрал как ценники на требы, свечи и иконы, так и человека, сидящего в церковной лавке и контролирующего «денежный поток».
Стоял металлический ящик для пожертвований и каждый опускал туда, сколько мог и хотел. Без всякого контроля.
Наш храм расположен в крошечной деревне за 30 километров от Костромы и за 25 км. от Красного-на-Волге. И люди ездили к нам издалека и на службы, и на требы, чаще всего именно потому, что здесь не чувствовали себя «кошельком на ножках».
Да, разбогатеть таким образом сложно. Были случаи, когда пожертвование за крещение не покрывало даже оплату бензина на проезд до храма. Кто-то жертвовал 200 рублей, кто-то - пять тысяч. Но этого хватало не только на зарплату двум священникам (что уже огромная редкость для маленькой деревенской церкви).
Мы позолотили купола, отремонтировали колокольню, сменили газовый котел, написали иконы для иконостаса. И все это делалось не на «доходы от торговли», а на «жертву добрых и щедрых сердец».
2.
Любые торговые сделки в церкви неканоничны: касается ли это прямой торговли благодатью или продажи мелких товаров – свечей, икон, книг и проч.
76 правило VI Вселенского собора прямо подвергает анафеме тех, кто устраивает торговлю в храме. Обычно обращают внимание на запрет на устроение харчевен и продажу съестного, однако в тексте есть и такие слова: «производить другого рода мелочную торговлю». Именно в этот разряд «необходимых мелочей» и попадает все, чем торгуют церковные лавки.
(Окончание ниже)