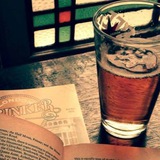Главный враг демократии — она сама, или об аутоимунном ответе демократии
Когда где-то в мире «неправильный народ» выбирает «неправильного кандидата», «неправильную партию» пытаются не допустить до выборов, или предполагается, что есть какой-то «правильный выбор», я думаю — удивительно, как мало мы продвинулись в политическом воображении за две с гаком тысячи лет.
Демократия уничтожит саму себя. Еще у Платона, для которого политическая история была плоским кругом, демократия неизбежно приводила к тирании: хаос, низкий уровень познаний в государственном управлении и выбор большинства позволяют честолюбивым политикам и демагогам воспользоваться демократическими инструментами, чтобы прийти к власти и захватить её. «Государство»:
Свобода — то, что демократия объявляет как свое главное благо и ценность, её и разрушает. Бедняки выберут недостойных — тут и политии конец.
Это «подозрение к демократии» можно увидеть у Гоббса, Руссо, Шумпетера, Шмитта и десятков политических мыслителей на протяжении веков: они видели в ней потенциал к саморазрушению. Будь-то по естественным причинам (война всех против всех Гоббса), или по причинам процессуальным и легалистским (в том числе благодаря Шумпетеру мы считаем, что демократия может быть только представительной, где народное участие де-политизируется и минимизируется до голосования в определенное время за ту или иную партию, представляющую агрегированные группы интересов). Все, что мы знаем о демократии, написано людьми, которые ей не доверяли и пытались её ограничить.
Эти врожденные проблемы приводят к аутоимунному ответу. Следите за руками: ключевое качество демократии — безусловная свобода, и эта свобода распространяется, в том числе, и на право принимать антидемократические решения, потому что если этой свободы нет, у нас нет, на деле, и демократии. Она должна давать право публично критиковать саму себя, и быть абсолютно гостеприимной — то есть приглашать к участию всех, в том числе несогласных.
Но что, если она этого делать не будет? Что, если демократия захочет себя защитить? Такую «воинствующую демократию» описал в 30-х годах сбежавший из Германии юрист Карл Левенштайн. Демократия должна защитить себя от фашизма (сейчас — еще терроризма и популизма). Это — технологии захвата власти, они лишены идеологического содержания: за ними не стоит настоящей идеи и народной поддержки, это способ антидемократических сил захватить власть, манипулируя народом. (Насколько эта оценка валидна — отдельный вопрос).
Как защищает себя воинствующая демократия? Она борется с фашизмом (популизмом, терроризмом) их методами — не рассчитывая на победу духа и демократического фундаментализма, она передавливает технологию захвата власти…захватом власти. В воинствующей демократии допускается временно (разумеется :)) поставить на паузу конституциональные принципы: разрешается нарушение гражданских прав людей и партий, их исключение из политики, консолидация власти в руках определенных людей и институтов, и так далее. Люди голосуют неправильно? Нужно минимизировать влияние народа. Антидемократическая партия слишком популярна? Нужно запретить ей участие в политике. Опасный для демократии кандидат? Нужно посадить его в тюрьму. Нельзя не заметить, что это звучит подозрительно — подозрительно похоже на авторитаризм. Так и есть: стремясь защитить себя от авторитарных лидеров и других врожденных рисков, демократия ограничивает свои изначальные предпосылки и, в конечном итоге, вырождается в ту или иную форму авторитаризма.
И воинствующая демократия, и другие такие идеи — привычный исключающий, элитистский подход к демократическому правительству. Его фундамент — принципиальное неверие в то, что люди могут управлять сами собой. Ничего нового.
Когда где-то в мире «неправильный народ» выбирает «неправильного кандидата», «неправильную партию» пытаются не допустить до выборов, или предполагается, что есть какой-то «правильный выбор», я думаю — удивительно, как мало мы продвинулись в политическом воображении за две с гаком тысячи лет.
Демократия уничтожит саму себя. Еще у Платона, для которого политическая история была плоским кругом, демократия неизбежно приводила к тирании: хаос, низкий уровень познаний в государственном управлении и выбор большинства позволяют честолюбивым политикам и демагогам воспользоваться демократическими инструментами, чтобы прийти к власти и захватить её. «Государство»:
Демократия осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию.
Свобода — то, что демократия объявляет как свое главное благо и ценность, её и разрушает. Бедняки выберут недостойных — тут и политии конец.
Это «подозрение к демократии» можно увидеть у Гоббса, Руссо, Шумпетера, Шмитта и десятков политических мыслителей на протяжении веков: они видели в ней потенциал к саморазрушению. Будь-то по естественным причинам (война всех против всех Гоббса), или по причинам процессуальным и легалистским (в том числе благодаря Шумпетеру мы считаем, что демократия может быть только представительной, где народное участие де-политизируется и минимизируется до голосования в определенное время за ту или иную партию, представляющую агрегированные группы интересов). Все, что мы знаем о демократии, написано людьми, которые ей не доверяли и пытались её ограничить.
Эти врожденные проблемы приводят к аутоимунному ответу. Следите за руками: ключевое качество демократии — безусловная свобода, и эта свобода распространяется, в том числе, и на право принимать антидемократические решения, потому что если этой свободы нет, у нас нет, на деле, и демократии. Она должна давать право публично критиковать саму себя, и быть абсолютно гостеприимной — то есть приглашать к участию всех, в том числе несогласных.
Но что, если она этого делать не будет? Что, если демократия захочет себя защитить? Такую «воинствующую демократию» описал в 30-х годах сбежавший из Германии юрист Карл Левенштайн. Демократия должна защитить себя от фашизма (сейчас — еще терроризма и популизма). Это — технологии захвата власти, они лишены идеологического содержания: за ними не стоит настоящей идеи и народной поддержки, это способ антидемократических сил захватить власть, манипулируя народом. (Насколько эта оценка валидна — отдельный вопрос).
Как защищает себя воинствующая демократия? Она борется с фашизмом (популизмом, терроризмом) их методами — не рассчитывая на победу духа и демократического фундаментализма, она передавливает технологию захвата власти…захватом власти. В воинствующей демократии допускается временно (разумеется :)) поставить на паузу конституциональные принципы: разрешается нарушение гражданских прав людей и партий, их исключение из политики, консолидация власти в руках определенных людей и институтов, и так далее. Люди голосуют неправильно? Нужно минимизировать влияние народа. Антидемократическая партия слишком популярна? Нужно запретить ей участие в политике. Опасный для демократии кандидат? Нужно посадить его в тюрьму. Нельзя не заметить, что это звучит подозрительно — подозрительно похоже на авторитаризм. Так и есть: стремясь защитить себя от авторитарных лидеров и других врожденных рисков, демократия ограничивает свои изначальные предпосылки и, в конечном итоге, вырождается в ту или иную форму авторитаризма.
И воинствующая демократия, и другие такие идеи — привычный исключающий, элитистский подход к демократическому правительству. Его фундамент — принципиальное неверие в то, что люди могут управлять сами собой. Ничего нового.
❤18👍6
Мы, конечно, устали от аргумента то европоцентрично, это европоцентрично. Но что поделать, если многое до сих пор европоцентрично.
Даже популизм.
В европейской традиции принято ставить знак равенства между популизмом и фашизмом. Либеральная демократия и популизм находятся в антагонистической связи: либерализм отвечает за индивидуальные права, защиту прав меньшинств и верховенство закона (понимаемого в легалистском, процедурном смысле: закон, по сути, просто структура для обеспечения работы либерализма). Популизм представляет волю народа (will of the people), общественное благо — которое вполне может оказываться выше (или реализовываться за счет) либеральных ценностей. Популистские движения бросают вызов устоявшимся институтам власти и элитам, что угрожает «системе сдержек и противовесов», которая и обеспечивает стабильное существование либеральной демократии. Когда народные массы добираются до власти — ничего хорошего не жди. Старейшая идея в западной политической традиции.
Проблема возникает, когда популизм — по сути, лишь форма для политизации массового участия, — обретает идеологическое содержание. Без него популизм производит нейтральные утверждения: устоявшиеся институты (суды, медиа, закон) мешают волеизъявлению народа; rule of the people конфликтует с minority rights; налицо эррозия доверия народа институтам; очевиден и конфликт между «народом» и «элитой», чьи политические интересы по своей сути несовместимы. Все так, кто же сейчас будет с этим спорить? Но когда между популизмом и каким-то еще -измом ставится знак равенства, популизм превращается в кризис и универсальное пугало «что пошло не так в западной политике».
В другой (тм) части мира все несколько иначе. Во многих латиноамериканских странах — подобно забытой или, скажем так, репрессированной истории популистской партии США — популизм воспринимается как освободительный феномен, антиолигархический, эгалитарный проект, который интегрирует обедневшие масс в политическую систему. (Правительства четы Киршнер в Аргентине, популистские правительства Уго Чавеса в Венесуэле, Лулы да Силвы в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Рафаэля Корреа в Эквадоре или Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике — разные проекты, но они пытались реализовывать политические требования, сформулированные на народном уровне, через государственные институты).
У этих популизмов (имевших разные исторические результаты) есть нечто общее. Рост популярности популистских взглядов чаще всего не означает разочарование в идее демократии (в конце концов, популизм и есть демократия), и даже не всегда означает разочарование в идее либеральной демократии — но он показывает недовольство тем, как текущая форма (либеральной, или, чаще всего, уже откровенно олигархической) демократии работает прямо сейчас. Мы не против партий вообще, мы против этих партий и их работы; мы не против демократического государства вообще, мы против этого государства и его работы.
Популизм не стремится отменить индивидуальные права per se — скорее, согласно логике некоторых современных политических авторов, он приносит антагонизм в государство, используя завоеванные институты для удовлетворения народных требований и подавления олигархического господства.
Самые большие проблемы у демократии начинаются, когда «просвещенные элиты» пытаются игнорировать или отвергать популизм как националистическую идеологию невежественных масс. Это скрывает истинную суть уже существующего социально-политического конфликта «народ-элиты», уже происходящую реакцию на системное разложение либеральной демократии: если «народ» един в своих интересах, то нет и необходимости в дискуссиях и согласовании различных интересов, а если такие практики необходимы, значит, есть те, чьи интересы не соблюдаются. Современная (буквально — последних лет) политическая мысль толкает нас в сторону популистского проекта — не запрета, а институализации конфликта между народом и элитами.
Если я не буду отвлекаться, следующий пост будет про плебейский республиканизм.
Даже популизм.
В европейской традиции принято ставить знак равенства между популизмом и фашизмом. Либеральная демократия и популизм находятся в антагонистической связи: либерализм отвечает за индивидуальные права, защиту прав меньшинств и верховенство закона (понимаемого в легалистском, процедурном смысле: закон, по сути, просто структура для обеспечения работы либерализма). Популизм представляет волю народа (will of the people), общественное благо — которое вполне может оказываться выше (или реализовываться за счет) либеральных ценностей. Популистские движения бросают вызов устоявшимся институтам власти и элитам, что угрожает «системе сдержек и противовесов», которая и обеспечивает стабильное существование либеральной демократии. Когда народные массы добираются до власти — ничего хорошего не жди. Старейшая идея в западной политической традиции.
Проблема возникает, когда популизм — по сути, лишь форма для политизации массового участия, — обретает идеологическое содержание. Без него популизм производит нейтральные утверждения: устоявшиеся институты (суды, медиа, закон) мешают волеизъявлению народа; rule of the people конфликтует с minority rights; налицо эррозия доверия народа институтам; очевиден и конфликт между «народом» и «элитой», чьи политические интересы по своей сути несовместимы. Все так, кто же сейчас будет с этим спорить? Но когда между популизмом и каким-то еще -измом ставится знак равенства, популизм превращается в кризис и универсальное пугало «что пошло не так в западной политике».
В другой (тм) части мира все несколько иначе. Во многих латиноамериканских странах — подобно забытой или, скажем так, репрессированной истории популистской партии США — популизм воспринимается как освободительный феномен, антиолигархический, эгалитарный проект, который интегрирует обедневшие масс в политическую систему. (Правительства четы Киршнер в Аргентине, популистские правительства Уго Чавеса в Венесуэле, Лулы да Силвы в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Рафаэля Корреа в Эквадоре или Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике — разные проекты, но они пытались реализовывать политические требования, сформулированные на народном уровне, через государственные институты).
У этих популизмов (имевших разные исторические результаты) есть нечто общее. Рост популярности популистских взглядов чаще всего не означает разочарование в идее демократии (в конце концов, популизм и есть демократия), и даже не всегда означает разочарование в идее либеральной демократии — но он показывает недовольство тем, как текущая форма (либеральной, или, чаще всего, уже откровенно олигархической) демократии работает прямо сейчас. Мы не против партий вообще, мы против этих партий и их работы; мы не против демократического государства вообще, мы против этого государства и его работы.
Популизм не стремится отменить индивидуальные права per se — скорее, согласно логике некоторых современных политических авторов, он приносит антагонизм в государство, используя завоеванные институты для удовлетворения народных требований и подавления олигархического господства.
Самые большие проблемы у демократии начинаются, когда «просвещенные элиты» пытаются игнорировать или отвергать популизм как националистическую идеологию невежественных масс. Это скрывает истинную суть уже существующего социально-политического конфликта «народ-элиты», уже происходящую реакцию на системное разложение либеральной демократии: если «народ» един в своих интересах, то нет и необходимости в дискуссиях и согласовании различных интересов, а если такие практики необходимы, значит, есть те, чьи интересы не соблюдаются. Современная (буквально — последних лет) политическая мысль толкает нас в сторону популистского проекта — не запрета, а институализации конфликта между народом и элитами.
Если я не буду отвлекаться, следующий пост будет про плебейский республиканизм.
❤9🔥4👾3
Forwarded from Тезис 11
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАТВЕЕВЫМ ИЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАТВЕЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Увлекся политикой и экономикой сельского хозяйства. В книге Майкла Поллана "Дилемма всеядного" приводится элегатное объяснение того, почему вся еда вокруг обработанная (processed). Дело не только в том, что жиры, сахар и соль, сконцентрированные в processed еде, привлекательны для мозга. Вопрос в предложении.
Промышленная логика диктутет необходимость постоянно подниматься по лестнице добавленной стоимости, одновременно удешевляя сырьевые inputs. Допустим, от сырой нефти к нефтепродуктам, нефтехимии, затем к полимерам и, наконец, к потребительским продуктам из полимеров. На каждой из ступенек лестницы можно зарабатывать все больше и больше, экономя на масштабе и получая отдачу от капиталовложений (ведущих к росту производительности). При прочих равных стране выгоднее продавать сложные обработанные товары (компьютеры, например), а не сырье. На этом была основана логика догоняющей индустриализации, до 1980-х преобладавшая в незападных странах. Так разбогатела Япония и "азиатские тигры". Сейчас этот импульс сохраняется в Китае.
Тот же принцип наблюдается в пищевой промышленности. Там можно реализовать промышленную логику, предельно удешевив сырье (например, кукурузу) и максимально его перерабатывая в условиях, приближенных к конвейерному производству.
Это хорошо видно по американским магазинам, большинство продуктов в которых - непонятное нечто, сделанное из анонимных веществ. Например, бесконечные ряды "батончиков". ЧТО это? Ну если так хочешь узнать, изучай список ингредиентов на десять строчек. Или просто прими, что это "батончик". За "батончиками" другие "снеки", произведенные по тому же принципу. За "снеками" "сладкое" и т.д.
Дело не только в пищевых привычках американцев, но и в том, что "батончик" всегда выгоднее помидора, т.к. потенциал роста производительности труда в выращивании помидоров ограничен, а в производстве батончиков - нет. Эта логика в целом приводит к росту благосостояния и уровня жизни, а также наукоемкости экономики, что для страны хорошо. Но в еде она не работает. Несмотря на то, что processed еду можно есть, подъем по лестнице добавленной стоимости ухудшает, а не улучшает ее свойства. "Батончик" хуже, а не лучше помидора. Но логика накопления неумолима (особенно в США, где она не скована моральными, политическими и юридическими ограничениями, привычками и традициями) и "батончики" постепенно вытесняют помидоры.
Реформисты в сельском хозяйстве стремятся заменить линейную логику производства (химические удобрения -> еда) циклической логикой экосистемы, восстанавливающей саму себя. Учитывая изменение климата, это не только про сельское хозяйство - логика экосистемы может быть распространена на экономику как таковую. Аргумент в пользу дероста.
Увлекся политикой и экономикой сельского хозяйства. В книге Майкла Поллана "Дилемма всеядного" приводится элегатное объяснение того, почему вся еда вокруг обработанная (processed). Дело не только в том, что жиры, сахар и соль, сконцентрированные в processed еде, привлекательны для мозга. Вопрос в предложении.
Промышленная логика диктутет необходимость постоянно подниматься по лестнице добавленной стоимости, одновременно удешевляя сырьевые inputs. Допустим, от сырой нефти к нефтепродуктам, нефтехимии, затем к полимерам и, наконец, к потребительским продуктам из полимеров. На каждой из ступенек лестницы можно зарабатывать все больше и больше, экономя на масштабе и получая отдачу от капиталовложений (ведущих к росту производительности). При прочих равных стране выгоднее продавать сложные обработанные товары (компьютеры, например), а не сырье. На этом была основана логика догоняющей индустриализации, до 1980-х преобладавшая в незападных странах. Так разбогатела Япония и "азиатские тигры". Сейчас этот импульс сохраняется в Китае.
Тот же принцип наблюдается в пищевой промышленности. Там можно реализовать промышленную логику, предельно удешевив сырье (например, кукурузу) и максимально его перерабатывая в условиях, приближенных к конвейерному производству.
Это хорошо видно по американским магазинам, большинство продуктов в которых - непонятное нечто, сделанное из анонимных веществ. Например, бесконечные ряды "батончиков". ЧТО это? Ну если так хочешь узнать, изучай список ингредиентов на десять строчек. Или просто прими, что это "батончик". За "батончиками" другие "снеки", произведенные по тому же принципу. За "снеками" "сладкое" и т.д.
Дело не только в пищевых привычках американцев, но и в том, что "батончик" всегда выгоднее помидора, т.к. потенциал роста производительности труда в выращивании помидоров ограничен, а в производстве батончиков - нет. Эта логика в целом приводит к росту благосостояния и уровня жизни, а также наукоемкости экономики, что для страны хорошо. Но в еде она не работает. Несмотря на то, что processed еду можно есть, подъем по лестнице добавленной стоимости ухудшает, а не улучшает ее свойства. "Батончик" хуже, а не лучше помидора. Но логика накопления неумолима (особенно в США, где она не скована моральными, политическими и юридическими ограничениями, привычками и традициями) и "батончики" постепенно вытесняют помидоры.
Реформисты в сельском хозяйстве стремятся заменить линейную логику производства (химические удобрения -> еда) циклической логикой экосистемы, восстанавливающей саму себя. Учитывая изменение климата, это не только про сельское хозяйство - логика экосистемы может быть распространена на экономику как таковую. Аргумент в пользу дероста.
❤17👍3
Это не пост про плебейскую республику. Это пост про помидоры.
Пять лет я живу «загородом». Сначала думала, что я не такая, но вот пошел второй год моего увлечения овощами. Почему в современном мире якобы abundance (самые разнообразные продукты доступны 24х7) люди готовы по полгода прыгать вокруг кустов пасленовых?
В прошлом году я на шару натыкала рандомной рассады. Но сейчас я пытаюсь начать выращивать овощи, которые недоступны (или мало доступны) там, где я живу: острые перцы (халапеньо мои халапеньо), сортовой картофель (rip), морковку веселого фиолетового цвета, бок-чой, сортовые помидоры.
Помидоры — сложная тема для средней полосы России. Чтобы вырастить хорошие, сладкие, сочные помидоры нужно, чтобы совпало множество условий. Но главное — это солнце. Иначе, как не старайся — следуешь ли ты более промышленным агротехникам (правильный порядок подачи азота-калия-фосфора-минералов, календарик обработки от болезней, прополка, севооборот и тд — не буду делать вид, что разбираюсь в агротехниках) или охипстеренным «натуральным» принципам земледелия (высадка в одну грядку растений-партнеров, натуральный цикл удобрения земли, мульчирование, опять же, и тд, этих много в соцсетях), ты получишь недозрелые, а может еще и больные помидоры.
Однажды ночью, подъезжая к Краснодару по трассе М-4, я видела, как черное небо от края до края озаряется густым оранжевым светом — это досвечиваются помидорные теплицы. Но более мелкие хозяйства не могут себе такого позволить. При этом мелкие хозяйства вплоть до «народных селекционеров» (я лет через пять 🤞) выращивают чертову тучу самых разнообразных овощей.
В массмаркет-магазине мы обычно встречаем ограниченный набор основных овощей и фруктов. Покупая бакинский помидор (это, кстати, не сорт, а общее название для примерного набора характеристик гибридов) в Москве, а потом — точно такой же в Таганроге, мы наблюдаем сокращение биоразнообразия: в приоритете у сх-сектора — не вкус, аромат и пищевые качества, а продолжительность хранения, устойчивость растения к болезням, а плода — к перевозкам, визуальные качества (покупатели — это мы! — склонны выбирать идеально выглядящие фрукты и овощи и не брать «некрасивое». На деле естественный вид плодов — тут у нас обычно включается здравый смысл! — не может быть одинаково идеальным. Мы не ждем этого от куста с помидорами — но почему-то ждем от магазина, продающего помидоры). Фактор логистики и хранения — один из ключевых: далеко не каждый помидор доедет из Краснодара во Владивосток, но именно это требуется, чтобы создать иллюзию все-доступности и abundance.
Сейчас в мире выращивается ограниченное количество гибридов овощей и фруктов, у которых специально поддерживаются нужные качества, и биоразнообразие постепенно исчезает из экосистемы — компании стремятся более эффективно создавать более маржинальные продукты, а «огородники» и мелкие хозяйства «играются» с сортами, которые в лучшем случае «в сезон» доезжают до ресторанов, которые специально их выискивают. Это та самая логика «батончика» в контексте помидора: мы не просто получаем чудовищный батончик, мы еще и получаем невкусный помидор. Это вроде как создает продовольственную безопасность — но одновременно ей и угрожает: например, самый популярный в мире сорт бананов Кавендиш под угрозой уничтожения из-за грибковой болезни (все растения сорта Кавендиш — клоны, они подвержены одному заболеванию одинаково. Предыдущий популярный сорт бананов — Гро-Мишель — так и вымер). Вот дико интересная статья про научную сторону потери помидорами вкуса и запаха — это происходит далеко не случайно.
Но еще линия «батончик»/помидор — классовая. Если раньше признаком бедности считалось есть сезонные растительные продукты, то сейчас бедные едят «батончик», состоящий из списка непонятных букв и цифр, средний класс ест пластиковый помидор из магазина, а богатые едят Очень Вкусный Органический Сезонный Помидор Такого Сорта Который Имеет Смысл Назвать По Имени От Своего Локального Поставщика.
Пять лет я живу «загородом». Сначала думала, что я не такая, но вот пошел второй год моего увлечения овощами. Почему в современном мире якобы abundance (самые разнообразные продукты доступны 24х7) люди готовы по полгода прыгать вокруг кустов пасленовых?
В прошлом году я на шару натыкала рандомной рассады. Но сейчас я пытаюсь начать выращивать овощи, которые недоступны (или мало доступны) там, где я живу: острые перцы (халапеньо мои халапеньо), сортовой картофель (rip), морковку веселого фиолетового цвета, бок-чой, сортовые помидоры.
Помидоры — сложная тема для средней полосы России. Чтобы вырастить хорошие, сладкие, сочные помидоры нужно, чтобы совпало множество условий. Но главное — это солнце. Иначе, как не старайся — следуешь ли ты более промышленным агротехникам (правильный порядок подачи азота-калия-фосфора-минералов, календарик обработки от болезней, прополка, севооборот и тд — не буду делать вид, что разбираюсь в агротехниках) или охипстеренным «натуральным» принципам земледелия (высадка в одну грядку растений-партнеров, натуральный цикл удобрения земли, мульчирование, опять же, и тд, этих много в соцсетях), ты получишь недозрелые, а может еще и больные помидоры.
Однажды ночью, подъезжая к Краснодару по трассе М-4, я видела, как черное небо от края до края озаряется густым оранжевым светом — это досвечиваются помидорные теплицы. Но более мелкие хозяйства не могут себе такого позволить. При этом мелкие хозяйства вплоть до «народных селекционеров» (я лет через пять 🤞) выращивают чертову тучу самых разнообразных овощей.
В массмаркет-магазине мы обычно встречаем ограниченный набор основных овощей и фруктов. Покупая бакинский помидор (это, кстати, не сорт, а общее название для примерного набора характеристик гибридов) в Москве, а потом — точно такой же в Таганроге, мы наблюдаем сокращение биоразнообразия: в приоритете у сх-сектора — не вкус, аромат и пищевые качества, а продолжительность хранения, устойчивость растения к болезням, а плода — к перевозкам, визуальные качества (покупатели — это мы! — склонны выбирать идеально выглядящие фрукты и овощи и не брать «некрасивое». На деле естественный вид плодов — тут у нас обычно включается здравый смысл! — не может быть одинаково идеальным. Мы не ждем этого от куста с помидорами — но почему-то ждем от магазина, продающего помидоры). Фактор логистики и хранения — один из ключевых: далеко не каждый помидор доедет из Краснодара во Владивосток, но именно это требуется, чтобы создать иллюзию все-доступности и abundance.
Сейчас в мире выращивается ограниченное количество гибридов овощей и фруктов, у которых специально поддерживаются нужные качества, и биоразнообразие постепенно исчезает из экосистемы — компании стремятся более эффективно создавать более маржинальные продукты, а «огородники» и мелкие хозяйства «играются» с сортами, которые в лучшем случае «в сезон» доезжают до ресторанов, которые специально их выискивают. Это та самая логика «батончика» в контексте помидора: мы не просто получаем чудовищный батончик, мы еще и получаем невкусный помидор. Это вроде как создает продовольственную безопасность — но одновременно ей и угрожает: например, самый популярный в мире сорт бананов Кавендиш под угрозой уничтожения из-за грибковой болезни (все растения сорта Кавендиш — клоны, они подвержены одному заболеванию одинаково. Предыдущий популярный сорт бананов — Гро-Мишель — так и вымер). Вот дико интересная статья про научную сторону потери помидорами вкуса и запаха — это происходит далеко не случайно.
Но еще линия «батончик»/помидор — классовая. Если раньше признаком бедности считалось есть сезонные растительные продукты, то сейчас бедные едят «батончик», состоящий из списка непонятных букв и цифр, средний класс ест пластиковый помидор из магазина, а богатые едят Очень Вкусный Органический Сезонный Помидор Такого Сорта Который Имеет Смысл Назвать По Имени От Своего Локального Поставщика.
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Уже не те
Почему помидоры потеряли вкус и как его вернуть
❤30👍3
Вроде культурный человек
Это не пост про плебейскую республику. Это пост про помидоры. Пять лет я живу «загородом». Сначала думала, что я не такая, но вот пошел второй год моего увлечения овощами. Почему в современном мире якобы abundance (самые разнообразные продукты доступны 24х7)…
Это имеет тотальные последствия. «Батончик» = это не только отсутствие денег на помидор, это еще и отсутствие времени на то, чтобы разобраться, что кладут в твою еду, на готовку, на то, чтобы вообще сесть за стол и реально eat a meal, чувствуя вкус еды (fun fact: авторка книги про вкусы занимается разработкой «батончиков», но сама не ест «батончики», а ходит по дорогим ресторанам и распинается о разнице между taste и flavor, о важности текстуры, температуры и акупунктуры в еде — чего, как она прекрасно знает, никогда не испытают люди, которые купят её ultra-processed foods).
Все национальные кухни мира — это ответ на ограничивающие условия среды. Луковый суп, паста с помидорами, ванна кимчи, ферментированная рыба, соленые грибы — все это глубоко укоренено в доступной в конкретном регионе форме сожительства человека и природы, и природа всегда решала, а человек — выживал. Когда мы искусственными средствами пытаемся сделать вид, что никаких условий среды не существует, что любые продукты любой кухни мира всегда доступны в любой точке планеты в любое время — мы думаем, что мы технологические короли природы, но на деле мы просто жуем дорогой, пластиковый, безвкусный, не имеющий запаха помидор, потому что вкус, запах и сладость были потеряны в результате селекции, и помидор собрали зеленым, чтобы он смог через пол-мира доехать до прилавка и прожить еще две недели в холодильнике. Потому что кто-то сказал, что это главное. Мы все еще просто выживаем, но сложно сказать, что мы в процессе что-то...создаем. Скорее, наоборот.
Вкус создается временем, культурой, традициями. Нас ведь нигде специально не учат культуре готовки и еды. Мы либо получаем это в семье, либо — уже во взрослом возрасте — делаем усилие, чтобы самостоятельно научиться, помыкаться по интернету, поэкспериментировать. Но это какой же мощный запрос на это должен быть. Традиция «передачи» (в семье) — отмирает по куче причин, особенно на обширно понимаемом «западе» (причем, можно поспекулировать. поствоенный капитализм и поствоенный социализм сделали на этой ниве одинаковые «успехи», хоть и по разным идеологическим причинам). Родители, которые привыкли к «батончику», передадут это своему ребенку. Еда — это тоже, в определенном смысле, энергия, как газ, уголь или нефть. Но еще это связь с природой, культурой, историей, средой, физическим миром разнообразных эмоциональных и телесных ощущений, и, конечно, с другими людьми — со всем тем, как проживаемая жизнь нами ощущается. Щупальца темы еды — в нашей социальной реальности буквально везде.
Тема времени — тоже, конечно, ключевая. Тут и там появляется тренд на сезонные продукты (арбузы мы едим в августе, мандарины — в декабре, весной появляется молодой чеснок, лук, картофель; есть сезон спаржи, лисичек, горошка, свежей зелени, огурцов, персиков, черешни, клубники. Те же продукты доступны и не в сезон — они хуже и дороже, но капиталистическая логика вечной доступности неумолима). Хорошая еда требует внимания, традиционных технологий выращивания и производства, и времени, времени, времени. В США 58% диеты взрослого — ultra-processed foods, а 20% всей еды едят в машине. У людей нет времени на политику? Да какая политика, у людей нет времени нормально поесть, о чем вообще речь.
Все национальные кухни мира — это ответ на ограничивающие условия среды. Луковый суп, паста с помидорами, ванна кимчи, ферментированная рыба, соленые грибы — все это глубоко укоренено в доступной в конкретном регионе форме сожительства человека и природы, и природа всегда решала, а человек — выживал. Когда мы искусственными средствами пытаемся сделать вид, что никаких условий среды не существует, что любые продукты любой кухни мира всегда доступны в любой точке планеты в любое время — мы думаем, что мы технологические короли природы, но на деле мы просто жуем дорогой, пластиковый, безвкусный, не имеющий запаха помидор, потому что вкус, запах и сладость были потеряны в результате селекции, и помидор собрали зеленым, чтобы он смог через пол-мира доехать до прилавка и прожить еще две недели в холодильнике. Потому что кто-то сказал, что это главное. Мы все еще просто выживаем, но сложно сказать, что мы в процессе что-то...создаем. Скорее, наоборот.
Вкус создается временем, культурой, традициями. Нас ведь нигде специально не учат культуре готовки и еды. Мы либо получаем это в семье, либо — уже во взрослом возрасте — делаем усилие, чтобы самостоятельно научиться, помыкаться по интернету, поэкспериментировать. Но это какой же мощный запрос на это должен быть. Традиция «передачи» (в семье) — отмирает по куче причин, особенно на обширно понимаемом «западе» (причем, можно поспекулировать. поствоенный капитализм и поствоенный социализм сделали на этой ниве одинаковые «успехи», хоть и по разным идеологическим причинам). Родители, которые привыкли к «батончику», передадут это своему ребенку. Еда — это тоже, в определенном смысле, энергия, как газ, уголь или нефть. Но еще это связь с природой, культурой, историей, средой, физическим миром разнообразных эмоциональных и телесных ощущений, и, конечно, с другими людьми — со всем тем, как проживаемая жизнь нами ощущается. Щупальца темы еды — в нашей социальной реальности буквально везде.
Тема времени — тоже, конечно, ключевая. Тут и там появляется тренд на сезонные продукты (арбузы мы едим в августе, мандарины — в декабре, весной появляется молодой чеснок, лук, картофель; есть сезон спаржи, лисичек, горошка, свежей зелени, огурцов, персиков, черешни, клубники. Те же продукты доступны и не в сезон — они хуже и дороже, но капиталистическая логика вечной доступности неумолима). Хорошая еда требует внимания, традиционных технологий выращивания и производства, и времени, времени, времени. В США 58% диеты взрослого — ultra-processed foods, а 20% всей еды едят в машине. У людей нет времени на политику? Да какая политика, у людей нет времени нормально поесть, о чем вообще речь.
❤41✍3👍1
Yes to all of it. (Помидоры скосили меня в прошлом году. В этом году они сделают это снова).
Три месяца? Рассаду 💃сажают 🌈 в феврале 💥 чтобы🌈 в августе 💥 получить 🌟 сомнительный 🍸 результат 🥰
Три месяца? Рассаду 💃сажают 🌈 в феврале 💥 чтобы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁35❤14👍6
Давеча обсуждали на философском кружке Кьеркегора. (Настроение — сделать кьеркегоровские разведчтения. Я убеждена, что Кьеркегор — философ радости и веры в достижимость счастья вопреки отчаянию).
Anyway. В эссе «Страх и трепет» (философ радости. я серьезно.) Кьеркегор разбирает притчу об Аврааме и сыне его Исааке, которого бог наказал принести в жертву на горе в земле Мориа. Если Авраам соглашается, он — убийца. Если отказывается — богоотступник. Но Авраам, считает Кьеркегор — рыцарь веры. Он верит: он состарится, а рядом с ним будет Исаак, как обещал ему бог. Он верит: он выполнит божий указ. Обе эти веры уживаются в нем силой абсурда. Он не думает: это проверка, потому что тогда это рационализация божественного слова. Он не думает: я убью сына. Он верит, что, подняв нож, он обретет Исаака.
Здесь не поможет знание, которое стремится обезразличить в познании внешний мир: такое знание предполагает, что достаточно узнать что-то всеобъемлющее и великое, и никакого другого усилия будет не нужно. Знать историю Авраама — недостаточно, чтобы стать Авраамом. Быть умником — очень просто. Познать Авраама, познать парадокс веры мысленно — невозможно. Движение веры, говорит Кьеркегор, для него, умника, невозможно — он может увидеть это движение, понять его разумом, но он не может истинно повторить его. Выше трагического героя ему не подняться, ведь туда нельзя попасть только силой ума.
И это вызывает закономерный вопрос: почему зачастую философы, преодолевшие крайнюю степень интеллектуального усилия, ищут спасения в простоте, в не-уме? Куда они стремятся попасть? Эта идея преследует Кьеркегора, Ницше, она пронзает буддистскую философию, некоторые античные философии, экзистенциализм. Люди веками всматриваются в наличное существование на высочайшем уровне разумной воли — и начинают искать спасения в простоте, которую описывают как нечто куда более недоступное, чем познание. Почему?
Я тоже ищу спасения в простоте, и она тоже кажется мне умопостигаемой, но недостижимой. Как какой-то предел — многие знания не приводят к многим усилиям, и уж особенно — к движениям отречения или веры. Но почему? Кьеркегор прав: его путь можно повторить. Сначала ты несчастен, но не знаешь об этом. Потом ты несчастен, но знаешь об этом — и ты можешь узнать очень много причин и следствий своего несчастья и несчастья всего мира. Но в какой-то момент ты упираешься в тупик, в предел познания — да, всегда можно еще чего-нибудь узнать, усложнить свою картину мира, добавить деталей, нюансов, новых идей и концептов, которые помогут посмотреть на ситуацию «еще вот так вот». Но…зачем? Проблема несчастья — частного или всеобщего — не решается через сознание, считает Кьеркегор. Наши проблемы не решатся, if we just add more mind.
Отчаяние возникает из конфликта между тем, кем человек является, и тем, кем он мог бы быть, всеми его множественными «потенциальностями». Отчаяние принимает разные формы, но все они являют предел познания — где мы, наконец, утрачиваем «объективную» почву под ногами и оказываемся перед выбором, который не поддается рациональному решению. Надо выбрать что-то одно — стать с этим выбором чем-то единым — и в этом выборе приобрести намного больше, чем если бы мы остались там, где нам кажется, открыты все пути. Силой абсурда: выбираешь что-то одно, отказываешься от спекуляций — приобретаешь весь мир. Бесконечная преданность конечному.
Но это происходит не через уменьшение: может казаться, что простота — это отказ от чего-то более сложного. Проводя основное различие на уровне ума, мы думаем — упрощение это оглупление. Но рыцарь веры Кьеркегора, Übermensch Ницше или, скажем, практикующий буддист — не иррациональны в тертуллиановском смысле («верую, ибо абсурдно»). Они, что называется, супрарациональны (suprarational): возможности рационального мышления попросту исчерпаны, нужно что-то еще, что-то, что нельзя выразить форме какого-либо императива. Да даже в языке — не особо получится.
Смотрите-ка, какое глубоко рассудочное рассуждение о вне-рассудочном я тут надушнила.
Anyway. В эссе «Страх и трепет» (философ радости. я серьезно.) Кьеркегор разбирает притчу об Аврааме и сыне его Исааке, которого бог наказал принести в жертву на горе в земле Мориа. Если Авраам соглашается, он — убийца. Если отказывается — богоотступник. Но Авраам, считает Кьеркегор — рыцарь веры. Он верит: он состарится, а рядом с ним будет Исаак, как обещал ему бог. Он верит: он выполнит божий указ. Обе эти веры уживаются в нем силой абсурда. Он не думает: это проверка, потому что тогда это рационализация божественного слова. Он не думает: я убью сына. Он верит, что, подняв нож, он обретет Исаака.
Здесь не поможет знание, которое стремится обезразличить в познании внешний мир: такое знание предполагает, что достаточно узнать что-то всеобъемлющее и великое, и никакого другого усилия будет не нужно. Знать историю Авраама — недостаточно, чтобы стать Авраамом. Быть умником — очень просто. Познать Авраама, познать парадокс веры мысленно — невозможно. Движение веры, говорит Кьеркегор, для него, умника, невозможно — он может увидеть это движение, понять его разумом, но он не может истинно повторить его. Выше трагического героя ему не подняться, ведь туда нельзя попасть только силой ума.
И это вызывает закономерный вопрос: почему зачастую философы, преодолевшие крайнюю степень интеллектуального усилия, ищут спасения в простоте, в не-уме? Куда они стремятся попасть? Эта идея преследует Кьеркегора, Ницше, она пронзает буддистскую философию, некоторые античные философии, экзистенциализм. Люди веками всматриваются в наличное существование на высочайшем уровне разумной воли — и начинают искать спасения в простоте, которую описывают как нечто куда более недоступное, чем познание. Почему?
Я тоже ищу спасения в простоте, и она тоже кажется мне умопостигаемой, но недостижимой. Как какой-то предел — многие знания не приводят к многим усилиям, и уж особенно — к движениям отречения или веры. Но почему? Кьеркегор прав: его путь можно повторить. Сначала ты несчастен, но не знаешь об этом. Потом ты несчастен, но знаешь об этом — и ты можешь узнать очень много причин и следствий своего несчастья и несчастья всего мира. Но в какой-то момент ты упираешься в тупик, в предел познания — да, всегда можно еще чего-нибудь узнать, усложнить свою картину мира, добавить деталей, нюансов, новых идей и концептов, которые помогут посмотреть на ситуацию «еще вот так вот». Но…зачем? Проблема несчастья — частного или всеобщего — не решается через сознание, считает Кьеркегор. Наши проблемы не решатся, if we just add more mind.
Отчаяние возникает из конфликта между тем, кем человек является, и тем, кем он мог бы быть, всеми его множественными «потенциальностями». Отчаяние принимает разные формы, но все они являют предел познания — где мы, наконец, утрачиваем «объективную» почву под ногами и оказываемся перед выбором, который не поддается рациональному решению. Надо выбрать что-то одно — стать с этим выбором чем-то единым — и в этом выборе приобрести намного больше, чем если бы мы остались там, где нам кажется, открыты все пути. Силой абсурда: выбираешь что-то одно, отказываешься от спекуляций — приобретаешь весь мир. Бесконечная преданность конечному.
Но это происходит не через уменьшение: может казаться, что простота — это отказ от чего-то более сложного. Проводя основное различие на уровне ума, мы думаем — упрощение это оглупление. Но рыцарь веры Кьеркегора, Übermensch Ницше или, скажем, практикующий буддист — не иррациональны в тертуллиановском смысле («верую, ибо абсурдно»). Они, что называется, супрарациональны (suprarational): возможности рационального мышления попросту исчерпаны, нужно что-то еще, что-то, что нельзя выразить форме какого-либо императива. Да даже в языке — не особо получится.
Смотрите-ка, какое глубоко рассудочное рассуждение о вне-рассудочном я тут надушнила.
❤185🤔16🔥15👍4🗿4👎1
Ну что, завидуем?
Я осматриваю его с головы до ног: нет ли тут какого‐нибудь разрыва, сквозь который выглядывает бесконечное? Ничего нет! Он полностью целен и тверд. А его опора? Она мощна, она полностью принадлежит конечному, ни один приодевшийся горожанин, что вечером в воскресенье вышел прогуляться к Фресбергу, не ступает по земле основательнее, чем он; он полностью принадлежит миру, ни один мещанин не может принадлежать миру полнее, чем он. Ничего нельзя обнаружить здесь от той чуждой и благородной сущности, что отличает рыцаря бесконечности. Он радуется всему, во всем принимает участие, и всякий раз, когда видишь его участником этих единичных событий, он делает это с усердием, отличающим земного человека, душа которого тесно связана со всем этим. Он занимается своим делом. И когда видишь его за работой, можно подумать, что он – тот писака, душа которого полностью поглощена итальянской бухгалтерией, настолько он точен в мелочах. Он берет выходной по воскресеньям. Он идет в церковь. Никакой небесный взгляд, ни один знак несоизмеримости не выдает его; и если его не знаешь, совершенно невозможно выделить его из общей массы; ибо его мощное, нормальное пение псалмов в лучшем случае доказывает, что у него хорошие легкие. После обеда он идет в лес. Он радуется всему, что видит: толпам людей, новым омнибусам, Сунду. Встретив его на Страндвайене, вы решите, что это лавочник, который вырвался на волю, настолько он радуется; ибо он никакой не поэт, и я напрасно пытался бы вырвать у него тайну поэтической несоизмеримости. Ближе к вечеру он отправляется домой, походка его неутомима, как походка почтальона. По дороге он думает о том, что жена наверняка приготовила для него какое‐то специальное горячее блюдо, которое ждет его по возвращении домой, например жареную баранью голову с овощами.
<…>
Он спокойно сидит у раскрытого окна и смотрит на площадь, у которой живет, и все, что происходит там перед его глазами, – будь то крыса, поскользнувшаяся на деревянных мостках, играющие дети – все занимает его, наполняя покоем в этом наличном существовании (Tilvaerlse), как будто он какая‐нибудь шестнадцатилетняя девушка. И все же он никакой не гений; ибо я напрасно пытался заметить в нем несоизмеримость гения. В вечерние часы он курит свою трубку; когда видишь его таким, можно было бы поклясться, что это торговец сыром из дома напротив, который отдыхает тут в полумраке. Он смотрит на все сквозь пальцы с такой беззаботностью, как будто он всего лишь легкомысленный бездельник, и, однако же, он покупает каждое мгновение своей жизни по самой дорогой цене, ʺдорожа временем, потому что дни лукавыʺ, ибо он не совершает даже самого малого иначе как силой абсурда. И все же, все же, я способен прийти от этого в бешенство если не по какой‐то другой причине, то хотя бы из зависти, – и все же этот человек осуществил движение бесконечности и продолжает осуществлять его в каждое следующее мгновение. Он опустошает глубокую печаль наличного существования, переливая ее в свое бесконечное самоотречение, ему ведомо блаженство бесконечного, он испытал боль отказа от всего, отказа от самого любимого, что бывает только у человека в этом мире; и все же конечное для него так же хорошо на вкус, как и для того, кто не знает ничего более высокого, ибо его продолжающееся пребывание в конечном не являет никакого следа вымученной, полной страха дрессуры, и все же он обладает той надежной уверенностью, которая помогает ему радоваться конечному, как если бы оно было самым надежным из всего.
❤28💯6
Откуда мы знаем, что мы что-то знаем?
В «Размышлениях о первой философии» Рене Декарт проводит мыслительный эксперимент. Он получил хорошее образование, но можно ли доверять тому, чему его научили? Ведь это — пересказы пересказов кем-то понятых идей. Научные факты оспариваются и оказываются ложными, теории доказываются и отвергаются. Сомневаться — нормально, но как далеко может завести сомнение? Что, если я, Рене Декарт, начну сомневаться во всем? Что я сижу в кресле, что передо мной лежит рукопись, да и что существуют в этом мире вообще такие вещи, как кресла и рукописи и Рене Декарты? Что, если весь мир — иллюзия, творение некоторого злого демона (Deus deceptor), который просто прикалывается над нами, убеждая нас в существовании вещей в этом мире, да и самого мира? Можем ли мы наверняка сказать, что что-то — есть, и иметь возможность доказать, что в этом случае злой демон точно не играет с нами?
Мысленный эксперимент Декарта показывает — да не особо. Уверенности в знании истины он противопоставляет другую крайность — уверенность в невозможности отличить истину от обмана, в необходимости отринуть существующие убеждения.
Но как с этим жить-то? В тотальном нигилизме?
Нет, говорит Декарт. Ведь есть последний оплот — единственная вещь, которую во всем этом торжестве радикального вопрошания мы не можем поставить под сомнение: наше существование. Если я сомневаюсь в истинности всего — даже самого себя, — должно существовать что-то, что сомневается. Даже мысль о несуществовании Я должна хоть у кого-то возникнуть. Если есть мысль — есть некто, субъект, который её помыслил. То самое: я мыслю, следовательно, я существую, когито эрго сум, или, точнее и ближе к идее самого Декарта — дубито эрго когито эрго сум, я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую.
Декарт в «Размышлениях» приходит к доказательству существования Бога (ради этого все и затевалось). Но вообще злой демон — удивительно современная мысль.
Декарт разделял формальную реальность (то, что буквально, физически существует) и репрезентативную реальность (идеи и представления о формальной реальности, которые возникают в нашей голове). Связь между этими двумя реальностями не такая прямая, как может показаться. Именно репрезентативную реальность искажает злой демон.
Он, по Декарту, обладает несколькими ключевыми характеристиками: он всемогущ (он не отвлекается от обманывания Декарта и в его распоряжении все возможные ресурсы), он умен (он может обмануть Декарта) и он по природе обманчив (он хочет обмануть Декарта). Он может и хочет вложить свои идеи в голову Декарта, чтобы тот воспринимал мир так, как демону угодно.
Декарт не предполагает, что злой демон действительно существует, но Декарт, представляется, жил куда менее…опосредованно. Мы же в современном мире в большой степени существуем внутри систем, чья основная задача — формировать нашу репрезентативную реальность: медиа, социальные сети, ИИ, бесконечные эксперты и гуру производят утверждения о реальности, которые мы не можем проверить, не обратившись к другим наборам иллюзий. Мы буквально окружены злыми демонами, которые тратят все свое время и ресурсы на то, чтобы ввести нас в иллюзию, сманипулировать нашей репрезентативной реальностью.
Но идея не в том, чтобы опрокинуть нас в отрицание. Напротив, это лекарство, конец всех сомнений. Потому что наш старый друг Рене предлагает нам удивительную вещь. Если есть шанс, что утверждение (скажем, «Земля вращается вокруг Солнца» или «такой-то политик ест детей») может оказаться ложным, оказаться игрой злого демона, если у нас нет возможности самостоятельно (!) установить неоспоримую, однозначную, фактическую (!!) истинность этого утверждения, то нам стоит относиться к нему как к ложному, а не как к железобетонной истине. Это не значит, что никакой формальной реальности не существует — но мы, так получилось, окружены силами, единственная задача которых — представить нам свою её репрезентацию.
Поэтому, как минимум, можно раз в день спрашивать самого себя: кстати, а я сегодня вообще сомневался?
В «Размышлениях о первой философии» Рене Декарт проводит мыслительный эксперимент. Он получил хорошее образование, но можно ли доверять тому, чему его научили? Ведь это — пересказы пересказов кем-то понятых идей. Научные факты оспариваются и оказываются ложными, теории доказываются и отвергаются. Сомневаться — нормально, но как далеко может завести сомнение? Что, если я, Рене Декарт, начну сомневаться во всем? Что я сижу в кресле, что передо мной лежит рукопись, да и что существуют в этом мире вообще такие вещи, как кресла и рукописи и Рене Декарты? Что, если весь мир — иллюзия, творение некоторого злого демона (Deus deceptor), который просто прикалывается над нами, убеждая нас в существовании вещей в этом мире, да и самого мира? Можем ли мы наверняка сказать, что что-то — есть, и иметь возможность доказать, что в этом случае злой демон точно не играет с нами?
Мысленный эксперимент Декарта показывает — да не особо. Уверенности в знании истины он противопоставляет другую крайность — уверенность в невозможности отличить истину от обмана, в необходимости отринуть существующие убеждения.
Но как с этим жить-то? В тотальном нигилизме?
Нет, говорит Декарт. Ведь есть последний оплот — единственная вещь, которую во всем этом торжестве радикального вопрошания мы не можем поставить под сомнение: наше существование. Если я сомневаюсь в истинности всего — даже самого себя, — должно существовать что-то, что сомневается. Даже мысль о несуществовании Я должна хоть у кого-то возникнуть. Если есть мысль — есть некто, субъект, который её помыслил. То самое: я мыслю, следовательно, я существую, когито эрго сум, или, точнее и ближе к идее самого Декарта — дубито эрго когито эрго сум, я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую.
Декарт в «Размышлениях» приходит к доказательству существования Бога (ради этого все и затевалось). Но вообще злой демон — удивительно современная мысль.
Декарт разделял формальную реальность (то, что буквально, физически существует) и репрезентативную реальность (идеи и представления о формальной реальности, которые возникают в нашей голове). Связь между этими двумя реальностями не такая прямая, как может показаться. Именно репрезентативную реальность искажает злой демон.
Он, по Декарту, обладает несколькими ключевыми характеристиками: он всемогущ (он не отвлекается от обманывания Декарта и в его распоряжении все возможные ресурсы), он умен (он может обмануть Декарта) и он по природе обманчив (он хочет обмануть Декарта). Он может и хочет вложить свои идеи в голову Декарта, чтобы тот воспринимал мир так, как демону угодно.
Декарт не предполагает, что злой демон действительно существует, но Декарт, представляется, жил куда менее…опосредованно. Мы же в современном мире в большой степени существуем внутри систем, чья основная задача — формировать нашу репрезентативную реальность: медиа, социальные сети, ИИ, бесконечные эксперты и гуру производят утверждения о реальности, которые мы не можем проверить, не обратившись к другим наборам иллюзий. Мы буквально окружены злыми демонами, которые тратят все свое время и ресурсы на то, чтобы ввести нас в иллюзию, сманипулировать нашей репрезентативной реальностью.
Но идея не в том, чтобы опрокинуть нас в отрицание. Напротив, это лекарство, конец всех сомнений. Потому что наш старый друг Рене предлагает нам удивительную вещь. Если есть шанс, что утверждение (скажем, «Земля вращается вокруг Солнца» или «такой-то политик ест детей») может оказаться ложным, оказаться игрой злого демона, если у нас нет возможности самостоятельно (!) установить неоспоримую, однозначную, фактическую (!!) истинность этого утверждения, то нам стоит относиться к нему как к ложному, а не как к железобетонной истине. Это не значит, что никакой формальной реальности не существует — но мы, так получилось, окружены силами, единственная задача которых — представить нам свою её репрезентацию.
Поэтому, как минимум, можно раз в день спрашивать самого себя: кстати, а я сегодня вообще сомневался?
1❤55👍6
Интересный тейк. Человек взаимодействует с миром с помощью чисел (основа вычислительной науки: компьютерная наука, физика) и с помощью слов (основа гуманитарной науки: философия, риторика, поэзия). Сейчас мы стоим у поворота: ключевой станет именно «семантическая власть» (недостаточность перевода слова power: навык, который сейчас будет очень важно иметь). Семантика, в широком смысле, это работа со словами — а значит, со смысловой тканью бытия.
Мы видели такой поворот в истории. Раньше численное, научное познание было ограничено в своей возможности произвести эффект на мир: ну понял ты в 18 веке, как работают пчелы, и что? Научные открытия использовались для развития философских концепций — картин мира, политических устройств, этики и «как стоит жить» (религия, социальные ценности, персональная практика жизни). Но последние полтора столетия научный, численный способ имел огромный эффект: зная, как работают пчелы, мы можем построить промышленную систему, которая кормит миллионы людей. (Параллельно мы...уничтожаем пчел, что может стоить человечеству жизни. Но это и есть одна из причин поворота к важности семантики). Знание, как работает гравитация, в 18 веке было...бессмысленно. Знание, как работает гравитация сейчас, бесценно и приводит к технологическим изменениям. Сейчас мы видим этот перекос: технологический принцип работы с миром определяет то, как мир устроен.
Но вот мы достигли определенного технологического пика. Сейчас нам нужен именно семантический принцип работы с миром, человеческий принцип — и философия, в широком смысле, лучший способ тренировать этот семантический навык, в том числе, чтобы работать с этой силой, которую предоставляют ЛЛМ-ки и прочая машинерия.
Но философия может быть больше, чем только рабочим инструментом — она может дать «практическую мудрость», глубокое понимание, как мне жить хорошо. В чем разница? Первый способ — это решение проблем в реальном мире, и не так важно, кто и как их решит. Неважно, кто и как найдет лекарство от рака, если оно будет найдено. Но второй способ — персональный, индивидуализированный — именно я должен знать, как, скажем, строить отношения с людьми и с самим собой. Это знание, которое должно быть именно у меня, именно я должен быть тем, кто его для себя откроет и им воспользуется для своей жизни.
Инструментальные задачи может взять на себя ИИ или любая другая технология — мне нужно, чтобы мои проблемы в реальном мире были решены. Практические задачи проживания собственной жизни должны быть решены мной — именно я должна решить, какие ценности верны для меня, какие истины о том, как мне прожить хорошую жизнь, должны быть произведены мной и содержаться не в какой-то модели — они должны содержаться, за неимением лучшего слова, в моей душе. ИИ может решить внешние проблемы — но внутренние проблемы можем решить только мы сами.
Отсюда — уже мое — беспокойство: мы делаем что-то не то, когда просим ИИ решить задачи, касающиеся проживания жизни. Когда мы начинаем просить у него советов, как общаться с друзьями или переживать сложные эмоции. Когда мы просим его об инсайтах, когда загружаем туда свои разговоры с психотерапевтом и просим ИИ заменить живого собеседника, живое присутствие Другого. Нам нужны инсайты, которые производятся нашими собственными душевными силами, нужны решения, которые мы принимаем сами — потому что это, по сути, и есть жизнь, это и есть Я. Когда мы просим ИИ взять на себя семантическую ответственность — мы просим машину решить человеческую задачу. Давай, поживи за меня. Реши мою жизнь, как ты умеешь — то есть инструментально.
И мне кажется, это-то и пугает: мы сталкиваемся с реальностью, где наши банальные задачи за нас могут быть решены технологией, и нам остается проживать свою жизнь неопосредованно. Кто я такой в этом обновленном мире? В чем моя ценность — для меня лично? Как мне собой распорядиться? На эти вопросы, представляется, надо искать ответы не у моделек, для которых слова лишены смысла. Жизнь — не такая уж банальная задача.
Мы видели такой поворот в истории. Раньше численное, научное познание было ограничено в своей возможности произвести эффект на мир: ну понял ты в 18 веке, как работают пчелы, и что? Научные открытия использовались для развития философских концепций — картин мира, политических устройств, этики и «как стоит жить» (религия, социальные ценности, персональная практика жизни). Но последние полтора столетия научный, численный способ имел огромный эффект: зная, как работают пчелы, мы можем построить промышленную систему, которая кормит миллионы людей. (Параллельно мы...уничтожаем пчел, что может стоить человечеству жизни. Но это и есть одна из причин поворота к важности семантики). Знание, как работает гравитация, в 18 веке было...бессмысленно. Знание, как работает гравитация сейчас, бесценно и приводит к технологическим изменениям. Сейчас мы видим этот перекос: технологический принцип работы с миром определяет то, как мир устроен.
Но вот мы достигли определенного технологического пика. Сейчас нам нужен именно семантический принцип работы с миром, человеческий принцип — и философия, в широком смысле, лучший способ тренировать этот семантический навык, в том числе, чтобы работать с этой силой, которую предоставляют ЛЛМ-ки и прочая машинерия.
Но философия может быть больше, чем только рабочим инструментом — она может дать «практическую мудрость», глубокое понимание, как мне жить хорошо. В чем разница? Первый способ — это решение проблем в реальном мире, и не так важно, кто и как их решит. Неважно, кто и как найдет лекарство от рака, если оно будет найдено. Но второй способ — персональный, индивидуализированный — именно я должен знать, как, скажем, строить отношения с людьми и с самим собой. Это знание, которое должно быть именно у меня, именно я должен быть тем, кто его для себя откроет и им воспользуется для своей жизни.
Инструментальные задачи может взять на себя ИИ или любая другая технология — мне нужно, чтобы мои проблемы в реальном мире были решены. Практические задачи проживания собственной жизни должны быть решены мной — именно я должна решить, какие ценности верны для меня, какие истины о том, как мне прожить хорошую жизнь, должны быть произведены мной и содержаться не в какой-то модели — они должны содержаться, за неимением лучшего слова, в моей душе. ИИ может решить внешние проблемы — но внутренние проблемы можем решить только мы сами.
Отсюда — уже мое — беспокойство: мы делаем что-то не то, когда просим ИИ решить задачи, касающиеся проживания жизни. Когда мы начинаем просить у него советов, как общаться с друзьями или переживать сложные эмоции. Когда мы просим его об инсайтах, когда загружаем туда свои разговоры с психотерапевтом и просим ИИ заменить живого собеседника, живое присутствие Другого. Нам нужны инсайты, которые производятся нашими собственными душевными силами, нужны решения, которые мы принимаем сами — потому что это, по сути, и есть жизнь, это и есть Я. Когда мы просим ИИ взять на себя семантическую ответственность — мы просим машину решить человеческую задачу. Давай, поживи за меня. Реши мою жизнь, как ты умеешь — то есть инструментально.
И мне кажется, это-то и пугает: мы сталкиваемся с реальностью, где наши банальные задачи за нас могут быть решены технологией, и нам остается проживать свою жизнь неопосредованно. Кто я такой в этом обновленном мире? В чем моя ценность — для меня лично? Как мне собой распорядиться? На эти вопросы, представляется, надо искать ответы не у моделек, для которых слова лишены смысла. Жизнь — не такая уж банальная задача.
YouTube
Philosophy is the Last Subject Worth Studying
How to Prepare for the AI Age
1❤23🔥8