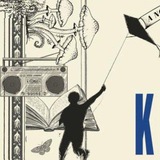Начала переводить новую книгу.
"А вот чего нам точно совсем не было надо, так это бури, но именно ее мы получили на седьмой день. И верующие снова возопили, Господи, помоги! А неверующие закричали, ну и сволочь же ты, Господи! Но и верующим, и неверующим было не избежать бури, накрывшей собой горизонт и подползавшей все ближе и ближе. Носившийся в исступлении ветер набирал силу, волны становились все выше, а с ними и наш ковчег набирал скорость и высоту. Молния осветила темные складки штормовых туч, и гром заглушил наш коллективный стон. Потоки дождя низверглись на нас, и пока волны вздымали наш ковчег все выше и выше, верующие молились, неверующие чертыхались, но и те, и другие плакали. Затем наш ковчег достиг пика, и на один бесконечный миг повис на заснеженном гребне над водною бездной. Глядя вниз, на ожидавшую нас глубокую, виноцветную долину, мы лишь две вещи знали наверняка. Первое – мы совершенно точно умрем! И второе – мы почти совершенно точно выживем!
Да, мы были в этом уверены. Мы – останемся – в живых!
И тут мы с воплями рухнули в бездну."
112 дней падения.
"А вот чего нам точно совсем не было надо, так это бури, но именно ее мы получили на седьмой день. И верующие снова возопили, Господи, помоги! А неверующие закричали, ну и сволочь же ты, Господи! Но и верующим, и неверующим было не избежать бури, накрывшей собой горизонт и подползавшей все ближе и ближе. Носившийся в исступлении ветер набирал силу, волны становились все выше, а с ними и наш ковчег набирал скорость и высоту. Молния осветила темные складки штормовых туч, и гром заглушил наш коллективный стон. Потоки дождя низверглись на нас, и пока волны вздымали наш ковчег все выше и выше, верующие молились, неверующие чертыхались, но и те, и другие плакали. Затем наш ковчег достиг пика, и на один бесконечный миг повис на заснеженном гребне над водною бездной. Глядя вниз, на ожидавшую нас глубокую, виноцветную долину, мы лишь две вещи знали наверняка. Первое – мы совершенно точно умрем! И второе – мы почти совершенно точно выживем!
Да, мы были в этом уверены. Мы – останемся – в живых!
И тут мы с воплями рухнули в бездну."
112 дней падения.
Каждый понедельник буду выбирать две книги, одну – максимально приближающую реальность, другую – максимально ее отодвигающую. В следующем выпуске: «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой и «Киммерийское лето» Юрия Слепухина. Теперь буду писать не только о переводной литературе, но и о книгах, написанных на русском языке.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах. Приступаем.
#толще_твиттера
Всеволод Петров
Турдейская Манон Леско. Дневник 1942-1945 (Издательство Ивана Лимбаха)
О чем: военные дневники советского искусствоведа и написанная им же прозрачная, идеальной формы повесть о любви к ушедшему миру
Зачем читать: «Турдейская Манон Леско» – повесть такая маленькая и тонкая, что из трещин времени, куда она закатилась, ее вытащили только в 2006 году, а в 2022 наконец переиздали, скажем так, с дополненной реальностью – военными дневниками автора, которые не то чтобы лучше помогают понять саму повесть, (ее простота не требует какого-то пристального, напряженного чтения), а, скорее, яснее увидеть тот мир, в котором такая история могла появиться. В санитарном поезде, который сам кажется метафорой военного времени, потому что бессмысленно и бесцельно движется в никуда, стиснутые вагоном и нарами люди проживают концентрированную, сгустившуюся жизнь, где каждый взгляд ведет к ссоре и каждое движение обрушивает за собой лавину смыслов и домыслов. И в этой атмосфере офицер-рассказчик вдруг видит санитарку Веру с лицом из 18 века, страшного века и уже умершего, но когда-то бывшего живым и прекрасным, а главное – бывшего временем, в котором не было этой, нынешней войны. Видит – и влюбляется в это лицо вышивальщицы с картины Ватто, лицо Марии-Антуанетты, которая вдруг кажется ему снова живой, потому что она живее и понятнее всего того, что творится вокруг. Но главное – и об этом Петров пишет и в повести, и в дневнике – Вера живет и мыслит так, будто у нее есть будущее, и верит в то, что оно у нее будет, настоящее мирное будущее с платьями и танцами. Это до неожиданности счастливая история – и короткая, как любое счастье, но, главное, она нужна сейчас как напоминание о том, что все уже было – и время, в котором не было ничего хорошего, кроме прошлого, и люди, которые все равно верили в другое время, за которым – будущее.
Джей Кристофф
Империя вампиров (АСТ, перевод Нияза Абдуллина)
О чем: в мире победившей тьмы спасение человечества зависит от забитого серебряными татухами неубиваемого торчка, но это еще не точно.
Зачем читать: с одной стороны, это такое идеальное стереотипное темное фэнтези. На мир опустилась вечная ночь, солнце превратилось в блеклый блин, земля покрылась грибами и плесенью, из еды осталась одна картоха, и четыре могущественных вампирских клана (и не только они) методично уничтожают все живое. Противостоит тьме орден Серебряных Святых, да и тех на момент начала истории почти не осталось. Единственный выживший член ордена – Габриэль де Леон ждет казни и рассказывает вампиру-хроникеру историю своей жизни, в которой, опять же, как и положено – было обучение в закрытой боевой школе при монастыре, любовь до гроба, битвы и сражения, интриги, предательства и даже поиски Грааля. Но у этой истории есть два выгодных качества, которые и поднимают ее над жанром. Во-первых, это невероятно динамичная, но без перегруженности экшеном история. Сюжет тут выстроен настолько продуманно и четко, что читательскому вниманию всегда есть за что зацепиться и восемьсот страниц по ощущениям пролетают как триста. А во-вторых, Кристофф умело разбавляет свойственный жанру накал героического пафоса уместным, нормальным юмором и деталями вроде говорящего со своим владельцем древнего меча, который потеряв в бою кончик, стал заговариваться и во время битвы может рассказать лимерик или процитировать рецепт грибного супа, или вроде вампира-летописца, который то и дело учит де Леона, как именно ему надо рассказывать свою историю. Все это вместе делает «Империю вампиров» очень достойным и очень нетупым приключенческим романом, который действительно позволяет переселиться на какое-то время в другой мир, пусть даже с плесенью, вампирами и картохой – мы-то теперь знаем, что это все не так уж и страшно.
#толще_твиттера
Всеволод Петров
Турдейская Манон Леско. Дневник 1942-1945 (Издательство Ивана Лимбаха)
О чем: военные дневники советского искусствоведа и написанная им же прозрачная, идеальной формы повесть о любви к ушедшему миру
Зачем читать: «Турдейская Манон Леско» – повесть такая маленькая и тонкая, что из трещин времени, куда она закатилась, ее вытащили только в 2006 году, а в 2022 наконец переиздали, скажем так, с дополненной реальностью – военными дневниками автора, которые не то чтобы лучше помогают понять саму повесть, (ее простота не требует какого-то пристального, напряженного чтения), а, скорее, яснее увидеть тот мир, в котором такая история могла появиться. В санитарном поезде, который сам кажется метафорой военного времени, потому что бессмысленно и бесцельно движется в никуда, стиснутые вагоном и нарами люди проживают концентрированную, сгустившуюся жизнь, где каждый взгляд ведет к ссоре и каждое движение обрушивает за собой лавину смыслов и домыслов. И в этой атмосфере офицер-рассказчик вдруг видит санитарку Веру с лицом из 18 века, страшного века и уже умершего, но когда-то бывшего живым и прекрасным, а главное – бывшего временем, в котором не было этой, нынешней войны. Видит – и влюбляется в это лицо вышивальщицы с картины Ватто, лицо Марии-Антуанетты, которая вдруг кажется ему снова живой, потому что она живее и понятнее всего того, что творится вокруг. Но главное – и об этом Петров пишет и в повести, и в дневнике – Вера живет и мыслит так, будто у нее есть будущее, и верит в то, что оно у нее будет, настоящее мирное будущее с платьями и танцами. Это до неожиданности счастливая история – и короткая, как любое счастье, но, главное, она нужна сейчас как напоминание о том, что все уже было – и время, в котором не было ничего хорошего, кроме прошлого, и люди, которые все равно верили в другое время, за которым – будущее.
Джей Кристофф
Империя вампиров (АСТ, перевод Нияза Абдуллина)
О чем: в мире победившей тьмы спасение человечества зависит от забитого серебряными татухами неубиваемого торчка, но это еще не точно.
Зачем читать: с одной стороны, это такое идеальное стереотипное темное фэнтези. На мир опустилась вечная ночь, солнце превратилось в блеклый блин, земля покрылась грибами и плесенью, из еды осталась одна картоха, и четыре могущественных вампирских клана (и не только они) методично уничтожают все живое. Противостоит тьме орден Серебряных Святых, да и тех на момент начала истории почти не осталось. Единственный выживший член ордена – Габриэль де Леон ждет казни и рассказывает вампиру-хроникеру историю своей жизни, в которой, опять же, как и положено – было обучение в закрытой боевой школе при монастыре, любовь до гроба, битвы и сражения, интриги, предательства и даже поиски Грааля. Но у этой истории есть два выгодных качества, которые и поднимают ее над жанром. Во-первых, это невероятно динамичная, но без перегруженности экшеном история. Сюжет тут выстроен настолько продуманно и четко, что читательскому вниманию всегда есть за что зацепиться и восемьсот страниц по ощущениям пролетают как триста. А во-вторых, Кристофф умело разбавляет свойственный жанру накал героического пафоса уместным, нормальным юмором и деталями вроде говорящего со своим владельцем древнего меча, который потеряв в бою кончик, стал заговариваться и во время битвы может рассказать лимерик или процитировать рецепт грибного супа, или вроде вампира-летописца, который то и дело учит де Леона, как именно ему надо рассказывать свою историю. Все это вместе делает «Империю вампиров» очень достойным и очень нетупым приключенческим романом, который действительно позволяет переселиться на какое-то время в другой мир, пусть даже с плесенью, вампирами и картохой – мы-то теперь знаем, что это все не так уж и страшно.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Вера Богданова
«Сезон отравленных плодов» («Редакция Елены Шубиной»)
О чем: трое детей взрослеют, но не вырастают в гексогеновой атмосфере девяностых и нулевых.
Зачем читать: с появлением дешевых фотоаппаратов, «мыльниц», как их называли в девяностых, начался своего рода бум фотоальбомов. Там, куда раньше вставляли редкие фото из ателье (вся семья на фоне габардинового задника), карточки из детсада (в гусарском костюме, с телефоном и общая, где мальчики-зайчики и девочки-снежинки), теперь появлялись максимально бытовые фото всего, размытые и полузакрытые розовыми пальцами «фотки», по 36 штук за раз (количество кадров в одной катушке с пленкой), с красными глазами и с кварцевыми оранжевыми датами в углу. Так вот, «Сезон отравленных плодов» — это своего рода фотоальбом из девяностых, с максимально точно, фотографически воспроизведенными снимками ушедшей реальности. Топик с Кейт и Лео, кассеты «Эйс оф бейс» и «Арми оф лаверс», перемотка карандашом, пиво «Очаковское», проблемы Жади из «Клона», пакет «Марианна», радио «Европа Плюс» — и фоновое чувство вечно падающего потолка и стен, взрывы и теракты, родители, у которых на рынке «точка», и дети, которые должны были непременно стать юристами, экономистами или переводчиками, чтобы не торговать колготками. Весь роман не столько история отдельных Жени, Даши и Ильи — они здесь словно выхваченные прожектором тени на берегу условного Стикса среди тысяч такие же теней, — сколько история девяностых — нулевых как форматирующего корсета, который не очень давал дышать или расти, но ничего не поделаешь: кому сказано, не сутулься.
Юрий Слепухин
«Киммерийское лето» (Т8, «Эвербук — аудио»)
О чем: хорошая советская беллетристика — с семейными тайнами и любовью на разрыв сердца — и без идеологической прогорклости.
Зачем читать: роман «Киммерийское лето» был написан в 1978 году, но кажется не устаревшим, а попросту историческим, возможно, из-за того, что в нем почти нет, собственно, ничего откровенно советского. А есть просто очень напряженная и динамичная история про девочку Нику, которая однажды прогуляла школу и потеряла портфель, и из-за этого случайно оброненного в реку портфеля ее жизнь резко изменится. Выйдут наружу неприглядные семейные тайны, сама Ника уедет путешествовать в Крым, но вместо шашлыков на набережной Феодосии будет есть кашу из котелка на археологическом раскопе, влюбится, разобьет и переломает много судеб и сердец и, наконец, повзрослеет. Это на удивление атмосферный роман — с еще новеньким и далеким Ленинским проспектом, старыми ленинградскими коммуналками, золотым крымским летом, «Волгой», магнитофоном «Филипс» и духами «Мицуко» в роли статусных примет времени и совершенно нестареющей осевой мыслью о том, что моральные ориентиры острее, точнее и безжалостнее всего, только когда они не сталкиваются с реальностью.
#толще_твиттера
Вера Богданова
«Сезон отравленных плодов» («Редакция Елены Шубиной»)
О чем: трое детей взрослеют, но не вырастают в гексогеновой атмосфере девяностых и нулевых.
Зачем читать: с появлением дешевых фотоаппаратов, «мыльниц», как их называли в девяностых, начался своего рода бум фотоальбомов. Там, куда раньше вставляли редкие фото из ателье (вся семья на фоне габардинового задника), карточки из детсада (в гусарском костюме, с телефоном и общая, где мальчики-зайчики и девочки-снежинки), теперь появлялись максимально бытовые фото всего, размытые и полузакрытые розовыми пальцами «фотки», по 36 штук за раз (количество кадров в одной катушке с пленкой), с красными глазами и с кварцевыми оранжевыми датами в углу. Так вот, «Сезон отравленных плодов» — это своего рода фотоальбом из девяностых, с максимально точно, фотографически воспроизведенными снимками ушедшей реальности. Топик с Кейт и Лео, кассеты «Эйс оф бейс» и «Арми оф лаверс», перемотка карандашом, пиво «Очаковское», проблемы Жади из «Клона», пакет «Марианна», радио «Европа Плюс» — и фоновое чувство вечно падающего потолка и стен, взрывы и теракты, родители, у которых на рынке «точка», и дети, которые должны были непременно стать юристами, экономистами или переводчиками, чтобы не торговать колготками. Весь роман не столько история отдельных Жени, Даши и Ильи — они здесь словно выхваченные прожектором тени на берегу условного Стикса среди тысяч такие же теней, — сколько история девяностых — нулевых как форматирующего корсета, который не очень давал дышать или расти, но ничего не поделаешь: кому сказано, не сутулься.
Юрий Слепухин
«Киммерийское лето» (Т8, «Эвербук — аудио»)
О чем: хорошая советская беллетристика — с семейными тайнами и любовью на разрыв сердца — и без идеологической прогорклости.
Зачем читать: роман «Киммерийское лето» был написан в 1978 году, но кажется не устаревшим, а попросту историческим, возможно, из-за того, что в нем почти нет, собственно, ничего откровенно советского. А есть просто очень напряженная и динамичная история про девочку Нику, которая однажды прогуляла школу и потеряла портфель, и из-за этого случайно оброненного в реку портфеля ее жизнь резко изменится. Выйдут наружу неприглядные семейные тайны, сама Ника уедет путешествовать в Крым, но вместо шашлыков на набережной Феодосии будет есть кашу из котелка на археологическом раскопе, влюбится, разобьет и переломает много судеб и сердец и, наконец, повзрослеет. Это на удивление атмосферный роман — с еще новеньким и далеким Ленинским проспектом, старыми ленинградскими коммуналками, золотым крымским летом, «Волгой», магнитофоном «Филипс» и духами «Мицуко» в роли статусных примет времени и совершенно нестареющей осевой мыслью о том, что моральные ориентиры острее, точнее и безжалостнее всего, только когда они не сталкиваются с реальностью.
#не_вошло_в_обзор У переводчиков есть такой вялотекущий спор – не принципиальный, а такой, скорее периодически интересный – о том, что делать с настоящим временем в англоязычных книгах, когда весь текст или большая его часть строго привязаны презенсом к сейчасности: некто идет, некто видит, я даю некту пять яблок. Эта модель хорошо работает в триллерах, потому что настоящее время собирает сюжет как утягивающие трусы, не дает ему поплыть в разные стороны, все время возвращая читателя к точке фокуса, но в целом, этим пользуются и авторы не-триллеров тоже, когда хотят, скажем, ненавязчиво разграничить временные повествовательные слои или поиграть с читательским фокусом. И вот есть переводчики и редакторы, которые считают, что на русский язык текст, сделанный полностью в презенсе, лучше передавать в более привычном нам повествовательном прошедшем времени, потому что и читателя может укачать, и для русской нарративной стилистики это такой искусственный прием, и что вообще это неудобненько.
Но мне всегда казалось, что это совершенно нормально можно делать и по-русски, и вообще русский язык, стерпевший набоковское «побрекфастать», снесет и это, и не умрет, а станет сильнее, и вот теперь в романе Веры Богдановой я увидела этому подтверждение. Там этот прием с постоянным динамичным презенсом, с простой и ясной фокусировкой истории в определенной точке без стилистистических спецэффектов работает совершенно прекрасно, как родной и ничего нигде читателю не жмет, напротив – это пример хорошей работы со структурой и сеткой романа, когда ясно видно, что можно выдержать этот прием на долгом расстоянии и выйдет ясненько и осмысленно, а главное – не в лоб.
Но мне всегда казалось, что это совершенно нормально можно делать и по-русски, и вообще русский язык, стерпевший набоковское «побрекфастать», снесет и это, и не умрет, а станет сильнее, и вот теперь в романе Веры Богдановой я увидела этому подтверждение. Там этот прием с постоянным динамичным презенсом, с простой и ясной фокусировкой истории в определенной точке без стилистистических спецэффектов работает совершенно прекрасно, как родной и ничего нигде читателю не жмет, напротив – это пример хорошей работы со структурой и сеткой романа, когда ясно видно, что можно выдержать этот прием на долгом расстоянии и выйдет ясненько и осмысленно, а главное – не в лоб.
Для бывших коллег, которые, конечно, никакие не бывшие, написала немного о трех новых парфюмах – книжки к ним тоже подобрала, кстати.
Forwarded from Beauty Insider
А все тут знают, что крутой литкритик и переводчик Анастасия Завозова когда-то работала с Яной З. в одном отделе журнала Allure и они вместе сочиняли парфюмерные рубрики?
А до этого Настя работала в журнале про вино и была дегустатором, поэтому уверена, что у хорошего человека должно быть все хорошее: книжки, винишко и ароматики.
Настя написала нам обзор на три парфюма, один из которых создал ее кумир и самый спорный и эксцентричный нос современности - Алессандро Гуалтиери.
https://www.beautyinsider.ru/2022/07/16/dva-strannyh-i-odin-veselyj-aromaty-ot-nasti-zavozovoj/
А до этого Настя работала в журнале про вино и была дегустатором, поэтому уверена, что у хорошего человека должно быть все хорошее: книжки, винишко и ароматики.
Настя написала нам обзор на три парфюма, один из которых создал ее кумир и самый спорный и эксцентричный нос современности - Алессандро Гуалтиери.
https://www.beautyinsider.ru/2022/07/16/dva-strannyh-i-odin-veselyj-aromaty-ot-nasti-zavozovoj/
Beauty Insider
Сложный, странный, простой: ароматные заметки Насти Завозовой | Beauty Insider
В свободное от литературных трудов время критик и переводчик Анастасия Завозова любит понюхать духи и разложить их на ноты и мысли.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах. Приступаем.
#толще_твиттера
Виктор Пелевин
t (Азбука-классика)
О чем: Граф Т., в котором легко угадывается Лев Толстой, ищет Оптину пустынь, а находит смысл жизни, которого, разумеется, нет.
Зачем читать: из романа, написанного на излете классического пелевинского периода, когда Виктор Олегович еще писал, подсвечивая себе третьим глазом, и интересовался природой пустоты, сейчас пропадает всякая злая фельетонность и остается так много нежности, что теперь он кажется особенно, по-новому нужным. Герой романа – Т., граф Т. – супермен с железной бородой, апологет добра без кулаков, но с бомбой в кармане – вдруг узнает, что все его действия, эмоции, чувства и даже мир, в котором он живет, ему не принадлежат, потому что он целиком и полностью зависит от создающей его команды криэйторов. Криэйторам – литературному торгашу Ариэлю, дорогущему беллетристу Г.Овнюку, порнографу Митеньке, творцу укуренных телег Пиворылову и еще одному мужику, который отвечает за всякую метафизику – конечно, нет дела до графа, и они управляют им, как героем компьютерной игры, чтобы заработать денег и отбить кредит. Далее, конечно, в лучших традициях Пелевина (а может и Г.Овнюка) граф Т. познает тайное имя создателя (он же египетский котенок-гермафродит), встретится в шутере с Достоевским для босс-файта второго уровня и поговорит с лошадью, но вся эта ироничная, острая и постмодерновая начинка романа отступит в тень перед тем, как искренне и упорно граф Т. – марионетка в руках упоротых криэйторов – будет пытаться отвоевать свое будущее, свою дорогу, своего бога внутри и свое солнце.
Александра Эндрюс
Кто такая Мод Диксон? (Синдбад, перевод Натальи Лихачевой)
О чем: триллер о неудачливой литераторше, которая становится ассистентом знаменитой писательницы-затворницы и в какой-то момент решает украсть личность этой писательницы, а также ее славу и гонорары
Зачем читать: вообще, это не очень новый сюжет, идея о том, что примерив на себя какие-то внешние отличительные призраки успешного, красивого – и вообще другого – человека, можно стать этим самым другим, успешным и красивым. На этом принципе выстроена вообще вся ныне запрещенная соцсеть с картинками, и огромное количество литературы, но что поделать, сюжет этот так удачен, что в умелых руках всякий раз срабатывает как новенький. Роман Мод Эндрюс выстроен как раз вокруг вот этого вечного желания влезть в чужую шкуру со стразиками и запахом успеха и надеяться, что она прирастет. Героиня романа, Флоренс, — это своего рода Том Рипли на минималках, только если в романе Патриции Хайсмит Том украл чужую жизнь, ведомый темной, эмоциональной мотивацией, сродни той, что владела Ричардом Пейпеном в тарттовской «Тайной истории», мотивация Флоренс куда более простая и плоская – и от этого неожиданно столь же убедительная. Флоренс мыслит совершенно клиповыми, инстаграмными категориями: ей хочется стать великой писательницей, потому что ее привлекает медийная составляющая этой профессии, тот самый неуловимый флер романа, который для любого успешного писателя создают журналисты и блогеры. Ей хочется перепостов и упоминаний, ей хочется тайны и славы, ей хочется жить в сказке, в образе, в истории, ей хочется денег, полученных красивым, идеальным путем, а не на офисной работе с девяти до пяти. Флоренс решает стать Мод Диксон, потому что ей хочется не писать книги, а быть писательницей. В общем, это достойный, динамичный и абсолютно летний триллер – значительная часть повествования происходит в Марокко – о том, как можно пойти на преступление ради смены аватара.
(*социальная сеть, запрещена в России)
#толще_твиттера
Виктор Пелевин
t (Азбука-классика)
О чем: Граф Т., в котором легко угадывается Лев Толстой, ищет Оптину пустынь, а находит смысл жизни, которого, разумеется, нет.
Зачем читать: из романа, написанного на излете классического пелевинского периода, когда Виктор Олегович еще писал, подсвечивая себе третьим глазом, и интересовался природой пустоты, сейчас пропадает всякая злая фельетонность и остается так много нежности, что теперь он кажется особенно, по-новому нужным. Герой романа – Т., граф Т. – супермен с железной бородой, апологет добра без кулаков, но с бомбой в кармане – вдруг узнает, что все его действия, эмоции, чувства и даже мир, в котором он живет, ему не принадлежат, потому что он целиком и полностью зависит от создающей его команды криэйторов. Криэйторам – литературному торгашу Ариэлю, дорогущему беллетристу Г.Овнюку, порнографу Митеньке, творцу укуренных телег Пиворылову и еще одному мужику, который отвечает за всякую метафизику – конечно, нет дела до графа, и они управляют им, как героем компьютерной игры, чтобы заработать денег и отбить кредит. Далее, конечно, в лучших традициях Пелевина (а может и Г.Овнюка) граф Т. познает тайное имя создателя (он же египетский котенок-гермафродит), встретится в шутере с Достоевским для босс-файта второго уровня и поговорит с лошадью, но вся эта ироничная, острая и постмодерновая начинка романа отступит в тень перед тем, как искренне и упорно граф Т. – марионетка в руках упоротых криэйторов – будет пытаться отвоевать свое будущее, свою дорогу, своего бога внутри и свое солнце.
Александра Эндрюс
Кто такая Мод Диксон? (Синдбад, перевод Натальи Лихачевой)
О чем: триллер о неудачливой литераторше, которая становится ассистентом знаменитой писательницы-затворницы и в какой-то момент решает украсть личность этой писательницы, а также ее славу и гонорары
Зачем читать: вообще, это не очень новый сюжет, идея о том, что примерив на себя какие-то внешние отличительные призраки успешного, красивого – и вообще другого – человека, можно стать этим самым другим, успешным и красивым. На этом принципе выстроена вообще вся ныне запрещенная соцсеть с картинками, и огромное количество литературы, но что поделать, сюжет этот так удачен, что в умелых руках всякий раз срабатывает как новенький. Роман Мод Эндрюс выстроен как раз вокруг вот этого вечного желания влезть в чужую шкуру со стразиками и запахом успеха и надеяться, что она прирастет. Героиня романа, Флоренс, — это своего рода Том Рипли на минималках, только если в романе Патриции Хайсмит Том украл чужую жизнь, ведомый темной, эмоциональной мотивацией, сродни той, что владела Ричардом Пейпеном в тарттовской «Тайной истории», мотивация Флоренс куда более простая и плоская – и от этого неожиданно столь же убедительная. Флоренс мыслит совершенно клиповыми, инстаграмными категориями: ей хочется стать великой писательницей, потому что ее привлекает медийная составляющая этой профессии, тот самый неуловимый флер романа, который для любого успешного писателя создают журналисты и блогеры. Ей хочется перепостов и упоминаний, ей хочется тайны и славы, ей хочется жить в сказке, в образе, в истории, ей хочется денег, полученных красивым, идеальным путем, а не на офисной работе с девяти до пяти. Флоренс решает стать Мод Диксон, потому что ей хочется не писать книги, а быть писательницей. В общем, это достойный, динамичный и абсолютно летний триллер – значительная часть повествования происходит в Марокко – о том, как можно пойти на преступление ради смены аватара.
(*социальная сеть, запрещена в России)
#не_вошло_в_обзор
Роман Пелевина «t» я вспомнила и перечитала после того, как прослушала «Анну Каренину» в аудио и впервые, наверное, поняла, до чего это великий роман. Я почему-то совсем забыла, сколько там воздуха и покоя, что это роман не только о метаниях Анны,но и о том, как старательно Левин упорядочивает и организует пространство вокруг себя, как часто любая ритмическая и сюжетная передышка в тексте связана с появлением в нем Левина, который подолгу сидит в кресле с Лаской у ног, пьет чай, разговаривает с Кознышевым, смотрит в небо, косит траву, пишет книгу, идет через лес, поминутно проживает собственное венчание, смерть брата и роды жены. Как-то вдруг отчетливо понимаешь, отчего этот роман пережил самые разные времена и эпохи – потому что в любое время в нем есть на что опереться.
«Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственною руководительною нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него».
Роман Пелевина «t» я вспомнила и перечитала после того, как прослушала «Анну Каренину» в аудио и впервые, наверное, поняла, до чего это великий роман. Я почему-то совсем забыла, сколько там воздуха и покоя, что это роман не только о метаниях Анны,но и о том, как старательно Левин упорядочивает и организует пространство вокруг себя, как часто любая ритмическая и сюжетная передышка в тексте связана с появлением в нем Левина, который подолгу сидит в кресле с Лаской у ног, пьет чай, разговаривает с Кознышевым, смотрит в небо, косит траву, пишет книгу, идет через лес, поминутно проживает собственное венчание, смерть брата и роды жены. Как-то вдруг отчетливо понимаешь, отчего этот роман пережил самые разные времена и эпохи – потому что в любое время в нем есть на что опереться.
«Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственною руководительною нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него».
Букер-2022 округлый и предсказуемый, добрая половина книг засветилась во всевозможных обзорах с аналитикой, а единственную книгу, которая мне действительно пришлась по душе – крохотную рождественскую романетку Клэр Киган о том, как один мужик решает поступить по совести, когда у него в жизни в общем-то все было хорошо – невозможно пока издать у нас, потому что издатели не работают с Россией. (Правда, русские права на минимум 3 книги из длинного списка уже точно куплены.)
Thebookerprizes
The Booker Prize 2022 | The Booker Prizes
Shehan Karunatilaka has won the Booker Prize 2022
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах. Приступаем.
#толще_твиттера
А.С. Байетт
Рагнарёк (ЛайвБук, перевод Ольги Исаевой)
О чем: маленькая девочка пытается совместить в уме скандинавский миф о гибели богов с окружающей ее непонятной войной взрослых людей
Зачем читать: эта книга — часть уже зачахшей, но довольно любопытной международной серии, которую в начале 2000-х запустило издательство Canongate, задолго, очень задолго до того, как пересказ и осмысление популярных мифологических сюжетов стали не просто мейнстримом, а массовой литературой и дровишками для буктока. Однако, когда затевалась эта серия «Мифы», постмодернизм был еще скорее жив, чем мертв, и участвовавшие в ней писатели – Пелевин именно для «Мифов» написал «Шлем ужаса» — с восторженной упоротостью рвали каноны и экспериментировали с форматами. Байеттовский «Рагнарёк» — это очень точный и почти академический пересказ мифа о гибели богов (Байетт не только известная писательница, лауреатка букеровской премии, но и по-настоящему выдающийся литературовед), но пересказ этот аккуратно и бесшовно совмещен с реальными, детскими воспоминаниями о подлинной гибели мира. Когда Байетт было три года, ее, как и многих детей во время второй мировой войны, эвакуировали из Лондона в сельскую местность, где она впервые прочла сборник скандинавских легенд и сказаний, и впечатления от книги наложились у нее на чувство, что и реальный мир тоже рушится, корабль, сделанный из ногтей мертвецов уже ищет ее дом, а дракон Нидхёгг с щеточкой усиков над верхней губой уже остервенело грызет корни мирового порядка. Получился филологический репортаж из ада, в котором, однако, в отличие от мира за окном, можно было найти покой и опору — потому что там мир уже погиб, и девочка знала, что жизнь не остановилась, а пошла заново.
Лиана Мориарти,
Яблоки не падают никогда (Азбука, перевод Евгении Бутенко)
О чем: у четверых взрослых детей пропадает мамочка, и им приходится самостоятельно утирать себе сопли
Зачем читать: Лиана Мориарти давно перестала писать триллеры и перешла к домашним, психологическим драмам, где нет окровавленных трупов, но есть куча скелетов в шкафах, которые в какой-то момент начинают оглушительно греметь костями. Когда Джой, недавняя и очень бодрая пенсионерка, вдруг исчезает, четверо ее очень взрослых детей вдруг понимают, что а) они не в ресурсе и жизнь их к такому не готовила и б) возможно, мама не просто ушла в ночь. Талант Мориарти как писательницы в том, что она умеет рассказывать про бытовое и ежеминутное, и рассказывать так, что об этом хочется долго и с интересом читать, и поэтому роман, который мог бы стать мрачным бдением на пепелище идеальной семьи, оказывается очень понятной и очень трогательной историей о том, что можно дожить до сорока и по-прежнему мыслить детсадовскими категориями. Четверо взрослых детей без мамочки отчаянно ищут выключатель в обступающей их тьме, кое-как склеивают разбитые сердца, разбирают на обидки свои отношения с родителями, играют в сыщиков, ссорятся и делают мизинчиками «мирись-мирись-мирись» и в итоге даже немного вырастают. Это хороший роман о том, что ничего идеального в мире не бывает — ни отношений, ни мам с папами, ни братьев и сестер — а вот любовь, какой бы она ни была, кривой, косой, слепой или безногой, в итоге всегда победит.
#толще_твиттера
А.С. Байетт
Рагнарёк (ЛайвБук, перевод Ольги Исаевой)
О чем: маленькая девочка пытается совместить в уме скандинавский миф о гибели богов с окружающей ее непонятной войной взрослых людей
Зачем читать: эта книга — часть уже зачахшей, но довольно любопытной международной серии, которую в начале 2000-х запустило издательство Canongate, задолго, очень задолго до того, как пересказ и осмысление популярных мифологических сюжетов стали не просто мейнстримом, а массовой литературой и дровишками для буктока. Однако, когда затевалась эта серия «Мифы», постмодернизм был еще скорее жив, чем мертв, и участвовавшие в ней писатели – Пелевин именно для «Мифов» написал «Шлем ужаса» — с восторженной упоротостью рвали каноны и экспериментировали с форматами. Байеттовский «Рагнарёк» — это очень точный и почти академический пересказ мифа о гибели богов (Байетт не только известная писательница, лауреатка букеровской премии, но и по-настоящему выдающийся литературовед), но пересказ этот аккуратно и бесшовно совмещен с реальными, детскими воспоминаниями о подлинной гибели мира. Когда Байетт было три года, ее, как и многих детей во время второй мировой войны, эвакуировали из Лондона в сельскую местность, где она впервые прочла сборник скандинавских легенд и сказаний, и впечатления от книги наложились у нее на чувство, что и реальный мир тоже рушится, корабль, сделанный из ногтей мертвецов уже ищет ее дом, а дракон Нидхёгг с щеточкой усиков над верхней губой уже остервенело грызет корни мирового порядка. Получился филологический репортаж из ада, в котором, однако, в отличие от мира за окном, можно было найти покой и опору — потому что там мир уже погиб, и девочка знала, что жизнь не остановилась, а пошла заново.
Лиана Мориарти,
Яблоки не падают никогда (Азбука, перевод Евгении Бутенко)
О чем: у четверых взрослых детей пропадает мамочка, и им приходится самостоятельно утирать себе сопли
Зачем читать: Лиана Мориарти давно перестала писать триллеры и перешла к домашним, психологическим драмам, где нет окровавленных трупов, но есть куча скелетов в шкафах, которые в какой-то момент начинают оглушительно греметь костями. Когда Джой, недавняя и очень бодрая пенсионерка, вдруг исчезает, четверо ее очень взрослых детей вдруг понимают, что а) они не в ресурсе и жизнь их к такому не готовила и б) возможно, мама не просто ушла в ночь. Талант Мориарти как писательницы в том, что она умеет рассказывать про бытовое и ежеминутное, и рассказывать так, что об этом хочется долго и с интересом читать, и поэтому роман, который мог бы стать мрачным бдением на пепелище идеальной семьи, оказывается очень понятной и очень трогательной историей о том, что можно дожить до сорока и по-прежнему мыслить детсадовскими категориями. Четверо взрослых детей без мамочки отчаянно ищут выключатель в обступающей их тьме, кое-как склеивают разбитые сердца, разбирают на обидки свои отношения с родителями, играют в сыщиков, ссорятся и делают мизинчиками «мирись-мирись-мирись» и в итоге даже немного вырастают. Это хороший роман о том, что ничего идеального в мире не бывает — ни отношений, ни мам с папами, ни братьев и сестер — а вот любовь, какой бы она ни была, кривой, косой, слепой или безногой, в итоге всегда победит.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах. Приступаем.
#толще_твиттера
Марие Ауберт
«Взрослые люди» («Поляндрия No Age», перевод Екатерины Лавринайтис)
О чем: Иде 40 лет, и у ее биологических часиков срывает кукушку — не без помощи любящих родственников.
Зачем читать: на самом деле этому крошечном роману — всего 160 страниц — не требуется привязка к какой-то конкретной стране или определенному времени. Дело тут происходит в самые обычные выходные на норвежской даче, но от перемещения дачи, скажем, в Подмосковье ничего не изменится — это вполне универсальная история о женщине, у которой к 40 годам так и не появилось какого-то социально понятного статуса. Ида не мать и не жена, все еще дочь, но уже давно не ребенок. И пока она думает о том, как бы ей половчее запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и заморозить драгоценные яйцеклетки (которые вроде бы и не золотые, но и Ида не курочка-несушка), ее сестра с комфортом устраивается в свеженькой беременности, а родители больше думают о сестре. И никто из ее родственников в целом толком не знает, что делать с Идой, которая давно должна была уже свыкнуться с ролью незаметной незамужней тетки, а она по-прежнему клеит мужиков в тиндере и надеется на то, что ее жизнь не закончилась, а просто еще не началась. «Взрослые люди» — роман не только о неудобных женщинах, о которых то и дело спотыкается общество, но и о том, что некоторые люди взрослеют вразрез со своими же ожиданиями и в таких случаях, наверное, нужно прекратить метать икру и жить, как живется.
Тана Френч
«Фэйтфул-Плейс» («Фантом Пресс», перевод Любови Карцивадзе)
О чем: мужик понимает, что с его невестой, которая 20 лет назад вдруг исчезла безо всякого предупреждения, возможно, что-то случилось.
Зачем читать: «Дублинский цикл» Таны Френч — практически идеальная серия полицейских детективов. И ужасно жаль, конечно, что в последнее время Френч отошла от детективной беллетристики и старается написать большой плотный роман, потому что хороших детективов пишут очень мало, а у Френч в этой области настоящий талант, даже несмотря на то, что завязки ее детективных романов подчас бывают, мягко говоря, фантастическими. Например, во втором романе «Дублинского цикла» нам предлагают поверить, что два человека могут быть как две капли воды похожи друг на друга, не будучи при этом связанными никаким, даже дальним, родством. А в «Фэйтфул-Плейс» прожженному полицейскому инспектору Фрэнку Мэкки только спустя 20 лет приходит в голову мысль, что любовь всей его жизни, девушка, с которой они собирались вместе сбежать в лучшую жизнь, не пришла к нему с вещами в условленный час потому, что вообще-то попала в беду. Но это все вообще неважно, потому что Френч даже на невообразимой завязке конструирует кажущийся правдоподобным текст, и ее расследования сочетают в себе два самых важных условия хорошего детектива: во-первых, совершая нелогичные поступки, ее герои выглядят живыми людьми, а не одушевленными кусками картона, и, во-вторых, Френч очень хорошо все понимает про жанровую игру и всегда аккуратно доводит ее до конца. Для настоящего детектива очень важно, чтобы у читателя перед глазами были все подсказки, но хороший автор детективов еще и хороший фокусник, и Френч, как никто иной, умеет отвлечь внимание читателя ложными ходами и фальшивыми развязками, и в эту игру она всегда играет от души, без постмодернистского прищура, а это, знаете, уже почти утраченное искусство.
#толще_твиттера
Марие Ауберт
«Взрослые люди» («Поляндрия No Age», перевод Екатерины Лавринайтис)
О чем: Иде 40 лет, и у ее биологических часиков срывает кукушку — не без помощи любящих родственников.
Зачем читать: на самом деле этому крошечном роману — всего 160 страниц — не требуется привязка к какой-то конкретной стране или определенному времени. Дело тут происходит в самые обычные выходные на норвежской даче, но от перемещения дачи, скажем, в Подмосковье ничего не изменится — это вполне универсальная история о женщине, у которой к 40 годам так и не появилось какого-то социально понятного статуса. Ида не мать и не жена, все еще дочь, но уже давно не ребенок. И пока она думает о том, как бы ей половчее запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и заморозить драгоценные яйцеклетки (которые вроде бы и не золотые, но и Ида не курочка-несушка), ее сестра с комфортом устраивается в свеженькой беременности, а родители больше думают о сестре. И никто из ее родственников в целом толком не знает, что делать с Идой, которая давно должна была уже свыкнуться с ролью незаметной незамужней тетки, а она по-прежнему клеит мужиков в тиндере и надеется на то, что ее жизнь не закончилась, а просто еще не началась. «Взрослые люди» — роман не только о неудобных женщинах, о которых то и дело спотыкается общество, но и о том, что некоторые люди взрослеют вразрез со своими же ожиданиями и в таких случаях, наверное, нужно прекратить метать икру и жить, как живется.
Тана Френч
«Фэйтфул-Плейс» («Фантом Пресс», перевод Любови Карцивадзе)
О чем: мужик понимает, что с его невестой, которая 20 лет назад вдруг исчезла безо всякого предупреждения, возможно, что-то случилось.
Зачем читать: «Дублинский цикл» Таны Френч — практически идеальная серия полицейских детективов. И ужасно жаль, конечно, что в последнее время Френч отошла от детективной беллетристики и старается написать большой плотный роман, потому что хороших детективов пишут очень мало, а у Френч в этой области настоящий талант, даже несмотря на то, что завязки ее детективных романов подчас бывают, мягко говоря, фантастическими. Например, во втором романе «Дублинского цикла» нам предлагают поверить, что два человека могут быть как две капли воды похожи друг на друга, не будучи при этом связанными никаким, даже дальним, родством. А в «Фэйтфул-Плейс» прожженному полицейскому инспектору Фрэнку Мэкки только спустя 20 лет приходит в голову мысль, что любовь всей его жизни, девушка, с которой они собирались вместе сбежать в лучшую жизнь, не пришла к нему с вещами в условленный час потому, что вообще-то попала в беду. Но это все вообще неважно, потому что Френч даже на невообразимой завязке конструирует кажущийся правдоподобным текст, и ее расследования сочетают в себе два самых важных условия хорошего детектива: во-первых, совершая нелогичные поступки, ее герои выглядят живыми людьми, а не одушевленными кусками картона, и, во-вторых, Френч очень хорошо все понимает про жанровую игру и всегда аккуратно доводит ее до конца. Для настоящего детектива очень важно, чтобы у читателя перед глазами были все подсказки, но хороший автор детективов еще и хороший фокусник, и Френч, как никто иной, умеет отвлечь внимание читателя ложными ходами и фальшивыми развязками, и в эту игру она всегда играет от души, без постмодернистского прищура, а это, знаете, уже почти утраченное искусство.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Ойинкан Брейтуэйт
«Моя сестрица — серийная убийца» (Popcorn Books, перевод Аллы Ахмеровой)
О чем: одна сестра убивает своих бойфрендов, другая — помогает замывать кровь и прятать трупы, а все вместе это размышление о том, сколько всего мы готовы простить красоте в наш век оголтелой визуальности.
Зачем читать: когда-то эта книга мелькнула в одном из длинных списков Букеровской премии, но дальше него не ушла. Вполне объяснимо, потому что Букер всегда лишь заигрывает с жанровыми и околожанровыми историями, но они редко добираются до финала, обычно уступая историям, в которых мораль и/или человеческие страдания составляют значительную жировую прослойку книги. Иными словами, Букер не терпит легковесности, а история о том, как младшая сестра убивает, а другая приходит замывать кровь и заворачивать труп в ковер, кажется с виду недостаточно серьезной, какой-то черной комедией о том, что было у стариков две дочери, красивая и старшая, и отношения у них были так себе, родом из детства, конечно же. Но постепенно своего рода растянутый нуарный анекдот оборачивается вполне себе реальной историей о том, что людей формирует не столько детство, сколько любой пережитый в детстве опыт зла и насилия, и что с лица, конечно, воду не пить, но чем красивее оно, это лицо, тем больше у него фильтров для реальности и тем чаще красота начинает равняться с правотой. Сестрица Айюла красивая, а значит, ее надо беречь; сестрица Кореде лицом не вышла, а значит, может замыть кровь и сойти за убийцу — ты виновата лишь в том, что тебя хочется отфотошопить, но в XXI веке это серьезный проступок.
Ислам Ханипаев
«Типа я» («Альпина. Проза»)
О чем: восьмилетний мужик Артур справляется с тяжелым горем при помощи вымышленного друга и вполне реальных хороших людей (без некоторого количества оленей тоже не обошлось, конечно).
Зачем читать: повесть Ханипаева часто сравнивают с романами Бакмана, и у них действительно есть одно общее важное свойство — это умение подолгу говорить о хороших людях, выстроить историю не вокруг зла, распада и тлена, а вокруг того, на чем и держится жизнь, — незаметной доброты самых обычных людей. Однако «Типа я» во многом гораздо лучше Бакмана, потому что заставляет нас снова поверить в человечность людей, которых в русскоязычной литературной традиции обычно описывают если не негативно, то достаточно снисходительно, — таксистов и алкашей, продавщиц и медсестер, школьных психологов и школьных задир, а также бабуль из маршруток и живущих в панельках мужиков. Пока Артур пытается примириться со смертью мамы и прижиться в новой семье, весь Дагестан (овершенно не идеализированный, а очень живой, с начальниками, покупающими себе золотые унитазы, и водилами маршруток, которые разговаривают примерно так: «Ругательство! Ругательство! Ругательство!») приходит ему на помощь. Артуру помогают искать папу, угощают тортом, вытирают слезы, любят, выслушивают и, самое важное, объясняют, зачем надо учиться танцевать лезгинку (ведь тогда вас заметят на свадьбе, 100%!). И хотя эта история явно не претендует на звание высокой литературы, она сейчас делает для читателя гораздо больше, чем самый интеллектуальный роман, — напоминает, что добро побеждает не сразу, а незаметно.
#толще_твиттера
Ойинкан Брейтуэйт
«Моя сестрица — серийная убийца» (Popcorn Books, перевод Аллы Ахмеровой)
О чем: одна сестра убивает своих бойфрендов, другая — помогает замывать кровь и прятать трупы, а все вместе это размышление о том, сколько всего мы готовы простить красоте в наш век оголтелой визуальности.
Зачем читать: когда-то эта книга мелькнула в одном из длинных списков Букеровской премии, но дальше него не ушла. Вполне объяснимо, потому что Букер всегда лишь заигрывает с жанровыми и околожанровыми историями, но они редко добираются до финала, обычно уступая историям, в которых мораль и/или человеческие страдания составляют значительную жировую прослойку книги. Иными словами, Букер не терпит легковесности, а история о том, как младшая сестра убивает, а другая приходит замывать кровь и заворачивать труп в ковер, кажется с виду недостаточно серьезной, какой-то черной комедией о том, что было у стариков две дочери, красивая и старшая, и отношения у них были так себе, родом из детства, конечно же. Но постепенно своего рода растянутый нуарный анекдот оборачивается вполне себе реальной историей о том, что людей формирует не столько детство, сколько любой пережитый в детстве опыт зла и насилия, и что с лица, конечно, воду не пить, но чем красивее оно, это лицо, тем больше у него фильтров для реальности и тем чаще красота начинает равняться с правотой. Сестрица Айюла красивая, а значит, ее надо беречь; сестрица Кореде лицом не вышла, а значит, может замыть кровь и сойти за убийцу — ты виновата лишь в том, что тебя хочется отфотошопить, но в XXI веке это серьезный проступок.
Ислам Ханипаев
«Типа я» («Альпина. Проза»)
О чем: восьмилетний мужик Артур справляется с тяжелым горем при помощи вымышленного друга и вполне реальных хороших людей (без некоторого количества оленей тоже не обошлось, конечно).
Зачем читать: повесть Ханипаева часто сравнивают с романами Бакмана, и у них действительно есть одно общее важное свойство — это умение подолгу говорить о хороших людях, выстроить историю не вокруг зла, распада и тлена, а вокруг того, на чем и держится жизнь, — незаметной доброты самых обычных людей. Однако «Типа я» во многом гораздо лучше Бакмана, потому что заставляет нас снова поверить в человечность людей, которых в русскоязычной литературной традиции обычно описывают если не негативно, то достаточно снисходительно, — таксистов и алкашей, продавщиц и медсестер, школьных психологов и школьных задир, а также бабуль из маршруток и живущих в панельках мужиков. Пока Артур пытается примириться со смертью мамы и прижиться в новой семье, весь Дагестан (овершенно не идеализированный, а очень живой, с начальниками, покупающими себе золотые унитазы, и водилами маршруток, которые разговаривают примерно так: «Ругательство! Ругательство! Ругательство!») приходит ему на помощь. Артуру помогают искать папу, угощают тортом, вытирают слезы, любят, выслушивают и, самое важное, объясняют, зачем надо учиться танцевать лезгинку (ведь тогда вас заметят на свадьбе, 100%!). И хотя эта история явно не претендует на звание высокой литературы, она сейчас делает для читателя гораздо больше, чем самый интеллектуальный роман, — напоминает, что добро побеждает не сразу, а незаметно.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Мария Бурас
«Лингвисты, пришедшие с холода» («Редакция Елены Шубиной»)
О чем: сборник ламповых историй о людях, во многом благодаря которым у нас есть «Гугл транслейт», умные колонки с Алисой, навигаторы и приблизительное представление о том, что падежей в русском языке гораздо больше, чем шесть.
Зачем читать: довольно сложно рекомендовать книгу, которая тебе скорее не понравилась, однако все мои претензии относятся к форме, а не к содержанию. О собственно лингвистике из этой книги узнать почти ничего нельзя, вся она — поток отчаянно, с любовью не отредактированного мемуарного текста, отзывов, некрологов и воспоминаний о людях, которым в 1950–1970-х годах довелось в СССР с нуля пересобирать лингвистику как науку. Если вы вдруг не учились, скажем, по учебникам Апресяна или Виноградова, эти люди довольно быстро сольются в единый образ бесконечного ученого, который пытается вылепить из хаоса структуру, когда, с одной стороны, вроде бы недавно умер Сталин, а с другой — уже выгоняют из университета за письмо в поддержку Пастернака. Но посреди этого потока неотрежиссированной, (авто)биографической речи — «Колмогорову тоже делать нечего, поэтому целые дни он со мной говорил — безумно интересно! — не помню, о чем» — постепенно проступает другая, тайная история советской, да и российской науки, которая вся кажется сформировавшейся на минном поле, зависящей от капризов людей, которым ты не подал руки, от того, скрыл ты или не скрыл в автобиографии репрессированного отца, от того, сумела ли ты вовремя понравиться условной Ахмановой, которая спасет тебя для науки от распределения в железнодорожную школу, и так далее. На месте лингвистов могли быть физики, литературоведы или метеорологи, потому что это полифоническое свидетельство ученых о том, что любую науку можно развивать в самых непростых условиях, но как же хорошо, когда никто не мешает работать.
Тейлор Дженкинс Рейд
«Семь мужей Эвелин Хьюго» (Inspiria, перевод Сергея Самуйлова)
О чем: у одной актрисы было семь мужей и одна большая любовь.
Зачем читать: когда читаешь этот роман, сразу становится понятно, отчего он стал литературной сенсацией при довольно обкатанном сюжете. Журналистка, которая мечтает прославиться, но пока пишет проходные фичерки в приблизительно интеллектуальном глянце, идет брать интервью у великой актрисы, а та рассказывает ей всю свою жизнь: от нищего детства до звездной карьеры и семи мужей, и все это хорошо подсвечено жирно воссозданной атмосферой старого Голливуда, вспышками таблоидных вырезок, скандалами, интригами, сексом, запретной, невозможной любовью и фейерверком разбитых сердец. Однако успех романа зависит не столько от самой истории, сколько от того, как безупречно она рассказана. При идеальной структуре (ни долгого вхождения, ни провисаний в динамике, ни растянутых сцен) роман еще и успешно оперирует всеми рабочими, проверенными нарративными тропами: из грязи — в князи; победа над абьюзером; трагическая смерть от болезни; тайны из прошлого; дело не в тебе, а во мне; противостояние бездушному обществу; настоящая семья — это близкие, которых выбираем мы сами; сильная женщина (не) плачет у окна. И все это обилие старых трюков не просто отлично уживается в одной истории, а еще и не мешает друг другу. «Семь мужей Эвелин Хьюго», конечно, роман-икея и роман-дошик, но иногда мало что может сравниться с дошиком по уровню жизненной необходимости, конечно.
#толще_твиттера
Мария Бурас
«Лингвисты, пришедшие с холода» («Редакция Елены Шубиной»)
О чем: сборник ламповых историй о людях, во многом благодаря которым у нас есть «Гугл транслейт», умные колонки с Алисой, навигаторы и приблизительное представление о том, что падежей в русском языке гораздо больше, чем шесть.
Зачем читать: довольно сложно рекомендовать книгу, которая тебе скорее не понравилась, однако все мои претензии относятся к форме, а не к содержанию. О собственно лингвистике из этой книги узнать почти ничего нельзя, вся она — поток отчаянно, с любовью не отредактированного мемуарного текста, отзывов, некрологов и воспоминаний о людях, которым в 1950–1970-х годах довелось в СССР с нуля пересобирать лингвистику как науку. Если вы вдруг не учились, скажем, по учебникам Апресяна или Виноградова, эти люди довольно быстро сольются в единый образ бесконечного ученого, который пытается вылепить из хаоса структуру, когда, с одной стороны, вроде бы недавно умер Сталин, а с другой — уже выгоняют из университета за письмо в поддержку Пастернака. Но посреди этого потока неотрежиссированной, (авто)биографической речи — «Колмогорову тоже делать нечего, поэтому целые дни он со мной говорил — безумно интересно! — не помню, о чем» — постепенно проступает другая, тайная история советской, да и российской науки, которая вся кажется сформировавшейся на минном поле, зависящей от капризов людей, которым ты не подал руки, от того, скрыл ты или не скрыл в автобиографии репрессированного отца, от того, сумела ли ты вовремя понравиться условной Ахмановой, которая спасет тебя для науки от распределения в железнодорожную школу, и так далее. На месте лингвистов могли быть физики, литературоведы или метеорологи, потому что это полифоническое свидетельство ученых о том, что любую науку можно развивать в самых непростых условиях, но как же хорошо, когда никто не мешает работать.
Тейлор Дженкинс Рейд
«Семь мужей Эвелин Хьюго» (Inspiria, перевод Сергея Самуйлова)
О чем: у одной актрисы было семь мужей и одна большая любовь.
Зачем читать: когда читаешь этот роман, сразу становится понятно, отчего он стал литературной сенсацией при довольно обкатанном сюжете. Журналистка, которая мечтает прославиться, но пока пишет проходные фичерки в приблизительно интеллектуальном глянце, идет брать интервью у великой актрисы, а та рассказывает ей всю свою жизнь: от нищего детства до звездной карьеры и семи мужей, и все это хорошо подсвечено жирно воссозданной атмосферой старого Голливуда, вспышками таблоидных вырезок, скандалами, интригами, сексом, запретной, невозможной любовью и фейерверком разбитых сердец. Однако успех романа зависит не столько от самой истории, сколько от того, как безупречно она рассказана. При идеальной структуре (ни долгого вхождения, ни провисаний в динамике, ни растянутых сцен) роман еще и успешно оперирует всеми рабочими, проверенными нарративными тропами: из грязи — в князи; победа над абьюзером; трагическая смерть от болезни; тайны из прошлого; дело не в тебе, а во мне; противостояние бездушному обществу; настоящая семья — это близкие, которых выбираем мы сами; сильная женщина (не) плачет у окна. И все это обилие старых трюков не просто отлично уживается в одной истории, а еще и не мешает друг другу. «Семь мужей Эвелин Хьюго», конечно, роман-икея и роман-дошик, но иногда мало что может сравниться с дошиком по уровню жизненной необходимости, конечно.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Вальтер Беньямин
Московский дневник (Ad Marginem, перевод Сергея Ромашко)
О чем: немецкий интеллектуал проводит в Москве конца 1920-х годов несколько морозных, хаотичных и исполненных нежного любопытства месяцев и записывает свои впечатления в дневнике
Зачем читать: дневник Беньямина примечателен в первую очередь своей непримечательностью. Это действительно дневник, на страницах которого хоть и проскакивают размышления Беньямина о советском театре, физике пространства или особенностях русской жанровой живописи 19 века, но прежде всего это, конечно, сборник мелочей и впечатлений от Москвы, где Беньямин оказался зимой 1926–1927 гг. Он ехал сюда за путевыми заметками и вроде как примерить к себе коммунизм, но дневник полон его встреч с латышской актрисой Асей Лацис, в которую он был тогда влюблен, и Москвы, переживавшей тогда очередной период внутренней амальгамации, сращивания старого и нового, и Беньямин в своих записях отражает это переменное, переменчивое, личное и городское время. Он дотошно подсчитывает Асины поцелуи и минуты близости с ней, ищет, где бы купить свечи, трет заиндевевшие окна трамваев, пытаясь понять, куда он едет и где находится, разглядывает вывески, покупает лососину и елку с ленточками в том самом «большом гастрономе» на Тверской, осознает ценность свечей перед электричеством, и незаметно для себя – но весьма считываемо для русскоязычного читателя – создает портрет города, который время снова вывернуло наизнанку, заплатами внутрь, прорехами – наружу, и который снова пытается перепридумать себя, и, главное, пережить зиму.
Анна Старобинец
Лисьи броды (Рипол-Классик)
О чем: бывший циркач, менталист, зэк и немного супергерой Максим Кронин ищет пропавшую жену и поиски приводят его в Маньчжурию, где граница между мирами – лисиц и людей, мертвых и живых – попросту исчезает.
Зачем читать: затем, что это просто очень хороший роман, какого давно не было на русском языке. Для писателя это практически смертельный номер: не просто соединить в одной истории больше пяти самых разных сюжетных линий, но и сделать так, чтобы все эти линии не заискрили несостыковками, и читатель не стал бы в них мучиться, как пресловутая старушка в высоковольтных проводах (кто не помнит этот стишок, подскажу, что старушка мучилась недолго), – это удивительное, редкое мастерство. В «Лисьих бродах», на первый взгляд, есть все для мучительного, тревожного чтения: зэки и особисты, черное безвременье последнего года войны, урановые рудники, карцерная атмосфера маленького городка, опыты над людьми, горы трупов, отрубленные пальцы и сорванные под пытками ногти. Но при этом Анне Старобинец каким-то мистическим образом удается затушевать всю эту тьму нереальной, мерцающей стилистикой немого кино, сказочностью междумирья, главами, рассказанными от лица собаки-телохранителя в конце-то концов, и вот уже история, которая могла стать очередной беспросветкой, вдруг делается волшебством и приключением, книжкой из какого-то идеального далёка, старым новым жюльверном для безнадежно выросших детей.
#толще_твиттера
Вальтер Беньямин
Московский дневник (Ad Marginem, перевод Сергея Ромашко)
О чем: немецкий интеллектуал проводит в Москве конца 1920-х годов несколько морозных, хаотичных и исполненных нежного любопытства месяцев и записывает свои впечатления в дневнике
Зачем читать: дневник Беньямина примечателен в первую очередь своей непримечательностью. Это действительно дневник, на страницах которого хоть и проскакивают размышления Беньямина о советском театре, физике пространства или особенностях русской жанровой живописи 19 века, но прежде всего это, конечно, сборник мелочей и впечатлений от Москвы, где Беньямин оказался зимой 1926–1927 гг. Он ехал сюда за путевыми заметками и вроде как примерить к себе коммунизм, но дневник полон его встреч с латышской актрисой Асей Лацис, в которую он был тогда влюблен, и Москвы, переживавшей тогда очередной период внутренней амальгамации, сращивания старого и нового, и Беньямин в своих записях отражает это переменное, переменчивое, личное и городское время. Он дотошно подсчитывает Асины поцелуи и минуты близости с ней, ищет, где бы купить свечи, трет заиндевевшие окна трамваев, пытаясь понять, куда он едет и где находится, разглядывает вывески, покупает лососину и елку с ленточками в том самом «большом гастрономе» на Тверской, осознает ценность свечей перед электричеством, и незаметно для себя – но весьма считываемо для русскоязычного читателя – создает портрет города, который время снова вывернуло наизнанку, заплатами внутрь, прорехами – наружу, и который снова пытается перепридумать себя, и, главное, пережить зиму.
Анна Старобинец
Лисьи броды (Рипол-Классик)
О чем: бывший циркач, менталист, зэк и немного супергерой Максим Кронин ищет пропавшую жену и поиски приводят его в Маньчжурию, где граница между мирами – лисиц и людей, мертвых и живых – попросту исчезает.
Зачем читать: затем, что это просто очень хороший роман, какого давно не было на русском языке. Для писателя это практически смертельный номер: не просто соединить в одной истории больше пяти самых разных сюжетных линий, но и сделать так, чтобы все эти линии не заискрили несостыковками, и читатель не стал бы в них мучиться, как пресловутая старушка в высоковольтных проводах (кто не помнит этот стишок, подскажу, что старушка мучилась недолго), – это удивительное, редкое мастерство. В «Лисьих бродах», на первый взгляд, есть все для мучительного, тревожного чтения: зэки и особисты, черное безвременье последнего года войны, урановые рудники, карцерная атмосфера маленького городка, опыты над людьми, горы трупов, отрубленные пальцы и сорванные под пытками ногти. Но при этом Анне Старобинец каким-то мистическим образом удается затушевать всю эту тьму нереальной, мерцающей стилистикой немого кино, сказочностью междумирья, главами, рассказанными от лица собаки-телохранителя в конце-то концов, и вот уже история, которая могла стать очередной беспросветкой, вдруг делается волшебством и приключением, книжкой из какого-то идеального далёка, старым новым жюльверном для безнадежно выросших детей.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Нелли Морозова
«Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника. ХХ век» («Иллюминатор»)
О чем: реальная история дочери «врага народа», которой любовь к чтению помогла в какой-то мере пережить арест отца и ссылку.
Зачем читать: с одной стороны, это, разумеется, очень страшная книга. Золотое и понятное детство в Таганроге, которое героиня проводит с любящими родителями сначала в веселой нищете, потом — в относительном достатке, в 1936 году начинает рассыпаться. Позолота стирается, свиная кожа террора не просто остается, а затягивает собой все большую поверхность жизни, и вот уже отец Неллечки арестован и объявлен врагом народа, а саму ее мама отправляет в Уфу к бабке — с юга в холод, из округлого завершенного мира в неизвестность. Однако все обаяние и чудо этой книги заключается в том, что это и страшная книга, и одновременно очень живая и веселая. Больше всего «Мое пристрастие к Диккенсу» напоминает кассилевскую повесть «Кондуит и Швамбрания», где Лева с Оськой прятались от наступающего на них нового времени в выдуманной книжной стране. И Нелли точно так же отгораживается от голода, неизвестности и тревоги за маму толстыми томами Диккенса, Дюма и Толстого. Так же как и «Швамбрания», мемуары Нелли Морозовой полнятся практически романными персонажами. Кулацкая дочка Мотя с огромным любящим сердцем, старая Апа, которая приняла и полюбила ссыльных дочь и мать, авантюристы — дяди Нелли, которым удалось уйти и от Ежова, и от Берии, кот Кац и козы Флавий и Юстус — ужас реальности скрадывается самой осязательностью, масштабностью текста и изображенных в нем людей, которые все-таки чаще испытывают пристрастие к Диккенсу, чем к злу.
Фрэнсис Хардинг
«Песня кукушки» (Clever, перевод Елены Измайловой)
О чем: девочка просыпается в больнице, и ее воспоминания кажутся ей одновременно своими и чужими, и весь мир кажется немного чужим и искривленным, и, возможно, в больнице проснулась не совсем она.
Зачем читать: Фрэнсис Хардинг — британская писательница, возможно попавшая к нам из мира фэйри. Ее вроде бы детские книги не то чтобы удивительно недетские, скорее, они всегда уводят читателя из мира ожидаемого в мир, который буквально на каждой странице уходит у даже очень взрослого и искушенного читателя из-под ног. Хардинг умеет собрать из привычных материалов (британские и кельтские легенды, магическое городское подбрюшье, люди и сказки по ту сторону холма, вечная детская боязнь обнаружить в себе подменыша или, того хуже, обнаружить зло в родителях) действительно страшную, странную и очень ночную историю, в которой нет ни одного предсказуемого поворота, и с каждой новой главой история становится все «страньше и страньше», все темнее и объемнее. В «Песни кукушки» снедаемая нечеловеческим голодом девочка съедает кукол и хорошие воспоминания, киноэкран становится ловушкой, а сухие листья — волосами, ножницы оказываются страшнее любого оружия, а джаз — силой, которая может склеивать миры и разрушать их. Подобной двойственности с виду детского текста, который то и дело оборачивается темным ужасом, который с читательских лет семи не выглядывал из шкафа, умеет добиваться разве что Нил Гейман (его «Коралина», пожалуй, самая верная книжная рифма к этой истории). Но Хардинг во многом безжалостнее и острее, потому что пишет не просто страшную сказку, а еще и историю взросления, которая никогда не бывает доброй.
#толще_твиттера
Нелли Морозова
«Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника. ХХ век» («Иллюминатор»)
О чем: реальная история дочери «врага народа», которой любовь к чтению помогла в какой-то мере пережить арест отца и ссылку.
Зачем читать: с одной стороны, это, разумеется, очень страшная книга. Золотое и понятное детство в Таганроге, которое героиня проводит с любящими родителями сначала в веселой нищете, потом — в относительном достатке, в 1936 году начинает рассыпаться. Позолота стирается, свиная кожа террора не просто остается, а затягивает собой все большую поверхность жизни, и вот уже отец Неллечки арестован и объявлен врагом народа, а саму ее мама отправляет в Уфу к бабке — с юга в холод, из округлого завершенного мира в неизвестность. Однако все обаяние и чудо этой книги заключается в том, что это и страшная книга, и одновременно очень живая и веселая. Больше всего «Мое пристрастие к Диккенсу» напоминает кассилевскую повесть «Кондуит и Швамбрания», где Лева с Оськой прятались от наступающего на них нового времени в выдуманной книжной стране. И Нелли точно так же отгораживается от голода, неизвестности и тревоги за маму толстыми томами Диккенса, Дюма и Толстого. Так же как и «Швамбрания», мемуары Нелли Морозовой полнятся практически романными персонажами. Кулацкая дочка Мотя с огромным любящим сердцем, старая Апа, которая приняла и полюбила ссыльных дочь и мать, авантюристы — дяди Нелли, которым удалось уйти и от Ежова, и от Берии, кот Кац и козы Флавий и Юстус — ужас реальности скрадывается самой осязательностью, масштабностью текста и изображенных в нем людей, которые все-таки чаще испытывают пристрастие к Диккенсу, чем к злу.
Фрэнсис Хардинг
«Песня кукушки» (Clever, перевод Елены Измайловой)
О чем: девочка просыпается в больнице, и ее воспоминания кажутся ей одновременно своими и чужими, и весь мир кажется немного чужим и искривленным, и, возможно, в больнице проснулась не совсем она.
Зачем читать: Фрэнсис Хардинг — британская писательница, возможно попавшая к нам из мира фэйри. Ее вроде бы детские книги не то чтобы удивительно недетские, скорее, они всегда уводят читателя из мира ожидаемого в мир, который буквально на каждой странице уходит у даже очень взрослого и искушенного читателя из-под ног. Хардинг умеет собрать из привычных материалов (британские и кельтские легенды, магическое городское подбрюшье, люди и сказки по ту сторону холма, вечная детская боязнь обнаружить в себе подменыша или, того хуже, обнаружить зло в родителях) действительно страшную, странную и очень ночную историю, в которой нет ни одного предсказуемого поворота, и с каждой новой главой история становится все «страньше и страньше», все темнее и объемнее. В «Песни кукушки» снедаемая нечеловеческим голодом девочка съедает кукол и хорошие воспоминания, киноэкран становится ловушкой, а сухие листья — волосами, ножницы оказываются страшнее любого оружия, а джаз — силой, которая может склеивать миры и разрушать их. Подобной двойственности с виду детского текста, который то и дело оборачивается темным ужасом, который с читательских лет семи не выглядывал из шкафа, умеет добиваться разве что Нил Гейман (его «Коралина», пожалуй, самая верная книжная рифма к этой истории). Но Хардинг во многом безжалостнее и острее, потому что пишет не просто страшную сказку, а еще и историю взросления, которая никогда не бывает доброй.
Forwarded from Правила жизни
Каждый понедельник литературный критик Анастасия Завозова рассказывает о двух книгах: для серьезного, вдумчивого чтения и чтобы отвлечься в разных литературных мирах.
#толще_твиттера
Леонид Добычин
«Город Эн» («Пальмира-Классика»)
О чем: абсурдистский дневник школьника, пытающегося осмыслить гоголевскую Россию начала XX века, но ее умом, конечно, не понять.
Зачем читать: в 1935 году роман Добычина советские критики коллективно сожгли на костре подгоравших у них художественных директив, где не было места экспериментам с расфокусировкой авторской позиции, наивному до юродивости голосу рассказчика или игре с нарративной техникой, которую, разумеется, тотчас же заклеймили нездоровой модой на формализм. Автор вскоре исчез (возможно, покончил с собой), а вслед за ним исчез для читателя и сам этот по-хорошему странный и очень современный роман о том, как сын телеграфистки, мечтающий добраться до гоголевского города Эн и подружиться там с детьми Манилова, в прилежном дневниковом стиле фиксирует обступающую его реальность — с битвой конфессий в провинциальном Двинске, с перевернувшей жизнь смертью отца и русско-японской войной, с лавками, письмами, картинками, свадьбами, родами, похоронами, учебой, экзаменовками и книгами об опасном возрасте, которые зачем-то читают взрослые. Но от традиционного бильдунгсромана на фоне мировых тектонических перемен «Город Эн» отличает голос рассказчика, который что в семь, что в пятнадцать лет воспринимает действительность во всей ее абсурдной буквальности, максимально отгораживаясь невниканием и непониманием от происходящих вокруг трагических событий. И, с одной стороны, это, конечно, очень смешно — Добычин то и дело ловко спотыкается о Гоголя и встает, — но, с другой, это, по сути, роман о заговаривании неотвратимо наступающего будущего и той травмы, которую оно тебе уже успело причинить.
Эбби Джини
«Хранители света» («Фолиант», перевод Дарьи Расковой)
О чем: женщина-фотограф приезжает на Фараллоновы острова, сгибаясь под грузом камер и непроговоренной боли, и оказывается запертой на год с чужой болью, дикой природой — и на пути к исцелению.
Зачем читать: ассоциации с шекспировской «Бурей» напрашиваются, конечно, сразу. Героиню романа зовут Миранда, и вся история разворачивается на скалистых загаженных птицами островах, где непогода, а то и буря вечно бродит где-то рядом, а само место действия — биологическая станция, где живут шестеро условных бородатых геологов, точнее, ученых с пропастью внутреннего мира, — напоминает то ли пещеру Калибана, то ли приют для навечно застрявших в башне из слоновой кости Ариэлей. Но роман Джини если что и заимствует у Шекспира, так это нотки и мотивы: ощущение магического простора и витающей в воздухе грозы, а сама история Миранды гораздо сильнее укоренена в обыденности, в банальности приключившегося с ней зла и горя. В замкнутой атмосфере станции и острова люди, изучающие птиц, рыб и куропаток, постепенно сами становятся птицами и животными, сливаясь и мимикрируя, а повествование от темной истории о том, как сложно человеку извне, да еще с собственным альбатросом на шее, встроиться в чужую, сложную иерархию, оборачивается рассказом о насилии, а затем и вроде бы необъяснимой насильственной смерти. Шекспир органично смыкается с человеческой трагедией из «И никого не стало» Агаты Кристи, драма — с детективом, а история Миранды вдруг оказывается органично вписанной в бесконечную историю женщин, переживших то же, что и она. Хороший, крепко сделанный роман о том, как природа помогает унять в себе зверя — в том числе того, что грызет тебя изнутри.
#толще_твиттера
Леонид Добычин
«Город Эн» («Пальмира-Классика»)
О чем: абсурдистский дневник школьника, пытающегося осмыслить гоголевскую Россию начала XX века, но ее умом, конечно, не понять.
Зачем читать: в 1935 году роман Добычина советские критики коллективно сожгли на костре подгоравших у них художественных директив, где не было места экспериментам с расфокусировкой авторской позиции, наивному до юродивости голосу рассказчика или игре с нарративной техникой, которую, разумеется, тотчас же заклеймили нездоровой модой на формализм. Автор вскоре исчез (возможно, покончил с собой), а вслед за ним исчез для читателя и сам этот по-хорошему странный и очень современный роман о том, как сын телеграфистки, мечтающий добраться до гоголевского города Эн и подружиться там с детьми Манилова, в прилежном дневниковом стиле фиксирует обступающую его реальность — с битвой конфессий в провинциальном Двинске, с перевернувшей жизнь смертью отца и русско-японской войной, с лавками, письмами, картинками, свадьбами, родами, похоронами, учебой, экзаменовками и книгами об опасном возрасте, которые зачем-то читают взрослые. Но от традиционного бильдунгсромана на фоне мировых тектонических перемен «Город Эн» отличает голос рассказчика, который что в семь, что в пятнадцать лет воспринимает действительность во всей ее абсурдной буквальности, максимально отгораживаясь невниканием и непониманием от происходящих вокруг трагических событий. И, с одной стороны, это, конечно, очень смешно — Добычин то и дело ловко спотыкается о Гоголя и встает, — но, с другой, это, по сути, роман о заговаривании неотвратимо наступающего будущего и той травмы, которую оно тебе уже успело причинить.
Эбби Джини
«Хранители света» («Фолиант», перевод Дарьи Расковой)
О чем: женщина-фотограф приезжает на Фараллоновы острова, сгибаясь под грузом камер и непроговоренной боли, и оказывается запертой на год с чужой болью, дикой природой — и на пути к исцелению.
Зачем читать: ассоциации с шекспировской «Бурей» напрашиваются, конечно, сразу. Героиню романа зовут Миранда, и вся история разворачивается на скалистых загаженных птицами островах, где непогода, а то и буря вечно бродит где-то рядом, а само место действия — биологическая станция, где живут шестеро условных бородатых геологов, точнее, ученых с пропастью внутреннего мира, — напоминает то ли пещеру Калибана, то ли приют для навечно застрявших в башне из слоновой кости Ариэлей. Но роман Джини если что и заимствует у Шекспира, так это нотки и мотивы: ощущение магического простора и витающей в воздухе грозы, а сама история Миранды гораздо сильнее укоренена в обыденности, в банальности приключившегося с ней зла и горя. В замкнутой атмосфере станции и острова люди, изучающие птиц, рыб и куропаток, постепенно сами становятся птицами и животными, сливаясь и мимикрируя, а повествование от темной истории о том, как сложно человеку извне, да еще с собственным альбатросом на шее, встроиться в чужую, сложную иерархию, оборачивается рассказом о насилии, а затем и вроде бы необъяснимой насильственной смерти. Шекспир органично смыкается с человеческой трагедией из «И никого не стало» Агаты Кристи, драма — с детективом, а история Миранды вдруг оказывается органично вписанной в бесконечную историю женщин, переживших то же, что и она. Хороший, крепко сделанный роман о том, как природа помогает унять в себе зверя — в том числе того, что грызет тебя изнутри.
Расскажу все-таки про короткий список Букеровской премии, которая меня в эти дни, конечно, мало интересует, и не только по понятной всем причине, но и потому, что в нынешнем году Букер вышел осторожным и скучноватым – каждой твари по паре, и, с одной стороны, это вполне хорошо: нет перевеса американцев, второй год подряд вспоминают, не спохватываясь, о том, что в доминионах есть приличная литература (победивший в прошлом году Галгут был идеален, наконец, удостоились внимания шри-ланкийские авторы, стилистически совершенный Арудпрагасам в прошлом году, бойкий Карунатилака в этом) и не забывают старичков, чтобы не вышло как с великой Берил Бейнбридж, которая так и умерла букеровской невестой, горька, невенчана, хотя, если честно, Алану Гарнеру надо было давать Букера за Owl Service, ну и пусть, что она детская. (Если вы не читали, очень советую, у нас она переведена как «Служба сов», и еще возьмите детям серию Alderley Tales, у нас ее переводила Марина Бородицкая, так что сами понимаете: «Камень из ожерелья Брисингов» и «Луна в канун Гомрата», а если интернет меня не обманывает, то еще поищите его «Элидор» в переводе Демуровой. И взрослым отдельно рекомендую егог мемуар об английском деревенском детстве Where Shall We Run To?)
Но, так вот, с другой стороны, это очень шаблонный букер, примерно 80 процентов книг были в прогнозах аналитиков, опять остались за бортом большие имена (Сент-Джон Мандел, Янагихара, Франзен: что бы там ни говорили, «Перекрестки» – это действительно редкого масштаба и таланта роман, последний гудбай окончательно умершего на днях 20 века), и вообще в этом году слишком видно, что основной принцип отбора романов такой: «Этому дала, этому дала и Шри-Ланку не забыла», и в итоге получился среднестатистический Букер: в целом все хорошо, а по отдельности – все уже было.
Но, так вот, с другой стороны, это очень шаблонный букер, примерно 80 процентов книг были в прогнозах аналитиков, опять остались за бортом большие имена (Сент-Джон Мандел, Янагихара, Франзен: что бы там ни говорили, «Перекрестки» – это действительно редкого масштаба и таланта роман, последний гудбай окончательно умершего на днях 20 века), и вообще в этом году слишком видно, что основной принцип отбора романов такой: «Этому дала, этому дала и Шри-Ланку не забыла», и в итоге получился среднестатистический Букер: в целом все хорошо, а по отдельности – все уже было.
Так вот, какие книги в итоге вошли в короткий список:
Small Things Like These
Written by Claire Keegan
Экономный рождественский роман о неотвратимости добра. Он очень простой, и, поскольку, права на его перевод пока что купить невозможно, рискну кратко его пересказать.Там речь о мужике по имени Билл Ферлонг, у которого все хорошо, насколько это возможно в темные времена. Кругом голод, безработица, ирландские восьмидесятые, а у него есть стабильная работа (он торгует углем и дровами), крепкая семья, нормальные дети, и все, в общем, ничего, пока он не сталкивается в местном монастыре с девочкой, над которой там явно издеваются. Монастырь этот – прачечная Магдалины, погуглите, это такая сеть приютов, куда сплавляли девушек, забеременевших без брака. Там они фактически оказывались в рабстве, детей у них отбирали или дети умирали, в общем, это были такие концлагеря для грешниц. И вот, единожды увидав неприкрытое зло, Билл не может его развидеть, в канун Рождества, ночью, возвращается в монастырь и, понимая, на что он себя обрекает, все-таки забирает оттуда эту босую малолетнюю Марию, у которой отняли Христа, и ведет ее к себе домой по тихим улицам в сиянии рождественских звезд,
Невероятно хороший роман, конечно, если что в шорт-листе и заслуживает Букера, то это вот он.
Glory
Written by NoViolet Bulawayo
Крепкая и очень коммерческая история, один из самых стремительных ретеллингов Оруэлла, появившихся после того, как его наследие перешло в PD. Фактически это «Скотный двор», но только про диктатуру и восстание в Зимбабве с вкраплениями современной американской истории: хорошо, понятно, со всех сторон в тренде.
Treacle Walker
Written by Alan Garner
Про Гарнера сказала выше – тоже был бы уместный и давно причитающийся ему Букер, по совокупности заслуг, скорее, чем непосредственно за эту книгу, где он опять мешает реальность с английским местечковым лором, очередная история про любимый им Чешир, очередная сказка – на этот раз и для взрослых.
The Trees
Written by Percival Everett
Драйвовый, по-черному смешной и довольно неплохой роман о расизме: с виду детективный нуар, но у каждого белого трупа рядом оказывается черный, количество трупов растет, один труп как будто все время не меняется, в общем, на самом деле, это сатира на полицейский произвол в США, очень понятная, но все равно очень читабельная. Права на перевод не продают.
The Seven Moons of Maali Almeida
Written by Shehan Karunatilaka
Очень сложный в исполнении, но структурно очень простой роман, который, в общем-то, реально весь суммирован в аннотации. Мужика-фотографа убили, и у его призрака есть неделя, чтобы показать друзьям, где находятся фотографии, обличающие режим и зверства гражданской войны. Но все это красиво обставлено, с экскурсами в историю Шри-Ланки, щедрой дозой местных легенд и магического реализма.
Oh William!
Written by Elizabeth Strout
Есть две хороших американских писательницы, которых судьи по очереди включают в списки: Энн Тайлер и Элизабет Страут, в этом году – очередь Страут.
Small Things Like These
Written by Claire Keegan
Экономный рождественский роман о неотвратимости добра. Он очень простой, и, поскольку, права на его перевод пока что купить невозможно, рискну кратко его пересказать.
Glory
Written by NoViolet Bulawayo
Крепкая и очень коммерческая история, один из самых стремительных ретеллингов Оруэлла, появившихся после того, как его наследие перешло в PD. Фактически это «Скотный двор», но только про диктатуру и восстание в Зимбабве с вкраплениями современной американской истории: хорошо, понятно, со всех сторон в тренде.
Treacle Walker
Written by Alan Garner
Про Гарнера сказала выше – тоже был бы уместный и давно причитающийся ему Букер, по совокупности заслуг, скорее, чем непосредственно за эту книгу, где он опять мешает реальность с английским местечковым лором, очередная история про любимый им Чешир, очередная сказка – на этот раз и для взрослых.
The Trees
Written by Percival Everett
Драйвовый, по-черному смешной и довольно неплохой роман о расизме: с виду детективный нуар, но у каждого белого трупа рядом оказывается черный, количество трупов растет, один труп как будто все время не меняется, в общем, на самом деле, это сатира на полицейский произвол в США, очень понятная, но все равно очень читабельная. Права на перевод не продают.
The Seven Moons of Maali Almeida
Written by Shehan Karunatilaka
Очень сложный в исполнении, но структурно очень простой роман, который, в общем-то, реально весь суммирован в аннотации. Мужика-фотографа убили, и у его призрака есть неделя, чтобы показать друзьям, где находятся фотографии, обличающие режим и зверства гражданской войны. Но все это красиво обставлено, с экскурсами в историю Шри-Ланки, щедрой дозой местных легенд и магического реализма.
Oh William!
Written by Elizabeth Strout
Есть две хороших американских писательницы, которых судьи по очереди включают в списки: Энн Тайлер и Элизабет Страут, в этом году – очередь Страут.
Thebookerprizes
The Booker Prize 2022 | The Booker Prizes
Shehan Karunatilaka has won the Booker Prize 2022