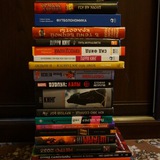События в книге, начинающиеся туманным утром в октябре 1752 года, охватывают всю вторую половину 18 века, но на этом не заканчиваются. Перед нами проходит панорама польской жизни, полная историй и событий.
Продолжение ⬇
Продолжение ⬇
Ольга Токрачук. "Книги Якова".
Начало ⬆
Главный герой книги - самопровозглашенный мессия Якоб Франк, молодой (в начале книги) еврей, который путешествует по Габсбургской и Османской империям, привлекая и отталкивая толпы и власти. Это не линейное повествование: книга соткана из эпизодов и голосов, историй и фрагментов, карт и иллюстраций. Несмотря на бесчисленное множество легенд и притч, слухов и ересей, вся эта странная и скандальная история является одним из удивительных исторических фактов. Писательница явно поработала с массой документов.
Якоб Франк - купец, утверждавший, что является реинкарнацией каббалиста 17-го века Саббатая Цви. Он попеременно исповедует ислам, иудаизм и христианство. Одни осуждают его как еретика, другие почитают его. Франк утверждал, что наступает конец света, и общепринятую мораль необходимо перевернуть с ног на голову. Комедия в этом романе, кончено же, сочетается с настоящей трагедией: пытки, предательство, которое приводит Якоба к долгосрочному заключению, смерть. «Якоб - обманщик, обольститель и мошенник», - говорит о нем Токарчук. По ходу книги автор не показывает, о чем главный герой думает и как он мыслит. Нам он показан только со стороны - глазами тех, кто с ним сталкивался.
В книге перед нами разворачивается общество, наполненное новым мышлением, возникшим в эпоху Просвещения и Французской революции. Но почему люди верят в таких, как Франк? Ответа нет. Персонажи вокруг Якова колоритные: священник отец Бенедикт Хмелевский пытается записать все знания, накопленные человечеством. Ента, в начале книги в середине 18 века представлена как болезненная старушка на свадьбе, в 1944 году все еще жива, став практически прозрачной.
"Литература - особый вид знаний. Это совершенство неточных форм", - говорит в книге Токарчук устами одной из героини. Эта трудная и полезная книга во многом похожа на книгу Бенедикта Хмелевского: энциклопедическая, безличная, неисчислимо богатая сведениями и понятиями и движимая верой в сверхъестественные свойства знания.
Если вам вместе с автором интересно искать ответы на важнейшие философские вопросы: цель жизни на земле, природа религии, возможность искупления, тяжелая и ужасная история восточноевропейского еврейства, то эта книга для вас. Чтение нелегкое - но оно того стоит. Но есть и второй путь - начать, как видится, с более легкой, но не менее важной и интересной книги автора - "Веди свой плуг по костям мертвецов" (Международная Букеровская премия 2018 года, не читал). И уже по этому произведению определиться, хотите ли вы дальше путешествовать по мирам с этим автором.
Начало ⬆
Главный герой книги - самопровозглашенный мессия Якоб Франк, молодой (в начале книги) еврей, который путешествует по Габсбургской и Османской империям, привлекая и отталкивая толпы и власти. Это не линейное повествование: книга соткана из эпизодов и голосов, историй и фрагментов, карт и иллюстраций. Несмотря на бесчисленное множество легенд и притч, слухов и ересей, вся эта странная и скандальная история является одним из удивительных исторических фактов. Писательница явно поработала с массой документов.
Якоб Франк - купец, утверждавший, что является реинкарнацией каббалиста 17-го века Саббатая Цви. Он попеременно исповедует ислам, иудаизм и христианство. Одни осуждают его как еретика, другие почитают его. Франк утверждал, что наступает конец света, и общепринятую мораль необходимо перевернуть с ног на голову. Комедия в этом романе, кончено же, сочетается с настоящей трагедией: пытки, предательство, которое приводит Якоба к долгосрочному заключению, смерть. «Якоб - обманщик, обольститель и мошенник», - говорит о нем Токарчук. По ходу книги автор не показывает, о чем главный герой думает и как он мыслит. Нам он показан только со стороны - глазами тех, кто с ним сталкивался.
В книге перед нами разворачивается общество, наполненное новым мышлением, возникшим в эпоху Просвещения и Французской революции. Но почему люди верят в таких, как Франк? Ответа нет. Персонажи вокруг Якова колоритные: священник отец Бенедикт Хмелевский пытается записать все знания, накопленные человечеством. Ента, в начале книги в середине 18 века представлена как болезненная старушка на свадьбе, в 1944 году все еще жива, став практически прозрачной.
"Литература - особый вид знаний. Это совершенство неточных форм", - говорит в книге Токарчук устами одной из героини. Эта трудная и полезная книга во многом похожа на книгу Бенедикта Хмелевского: энциклопедическая, безличная, неисчислимо богатая сведениями и понятиями и движимая верой в сверхъестественные свойства знания.
Если вам вместе с автором интересно искать ответы на важнейшие философские вопросы: цель жизни на земле, природа религии, возможность искупления, тяжелая и ужасная история восточноевропейского еврейства, то эта книга для вас. Чтение нелегкое - но оно того стоит. Но есть и второй путь - начать, как видится, с более легкой, но не менее важной и интересной книги автора - "Веди свой плуг по костям мертвецов" (Международная Букеровская премия 2018 года, не читал). И уже по этому произведению определиться, хотите ли вы дальше путешествовать по мирам с этим автором.
Telegram
Интриги книги
События в книге, начинающиеся туманным утром в октябре 1752 года, охватывают всю вторую половину 18 века, но на этом не заканчиваются. Перед нами проходит панорама польской жизни, полная историй и событий.
Продолжение
Продолжение
Могут ли помочь книги по самопомощи? (начало).
Редактор "The Washington Post" Jacob Brogan решил провести год за чтением книг по саморазвитию, чтобы на себе проверить, насколько это эффективно:
"Позвольте мне быть с вами откровенным: мне не помешала бы небольшая помощь. Может быть, даже большая.
Как и большинство людей, в первый месяц года я с энтузиазмом принимаю решение в предстоящем году стать лучше. Следуя советам мудрых, обычно, я строю лишь скромные планы. И, как все вокруг, в итоге я терплю неудачу во всем, что намеревался сделать. В прошедшем году я поклялся покупать меньше одежды, что казалось достижимой целью, особенно с учетом того, что в моем шкафу нет места, в то время как на моем банковском счету слишком много пустого места. К несчастью, пока я писал этот абзац, я прервался, чтобы купить пару брюк и две футболки.
Скатываясь штопором по своему четвертому десятку, я все больше беспокоюсь о том, что, возможно, вообще не смогу больше измениться. Конечно, я бросил курить десять лет назад (и да, пять лет спустя сделал это снова). И, конечно, в начале пандемии я купил велотренажер, которым до сих пор иногда пользуюсь. Но было бы проще рассказать вам, в чем я всю жизнь был плох, несмотря на все усилия (ну ладно, несмотря на некоторые усилия) справиться с ними: я сутулюсь, я так и не придумал, как улыбаться на фотографиях, я не умею покупать подарки и писать благодарственные письма. Возможно, я слишком много пью. Я определенно сплетничаю больше, чем следовало бы. Мне часто бывает очень грустно.
Но если есть что-то, в чем я всегда был хорош (кроме, конечно, меланхолической скромности), так это чтение. И хотя оно обеспечило меня большей частью работы, оно мало что сделало для смягчения моих недостатков или предотвращения моих неудач. Вообще говоря, чтение большого количества книг в основном делает вас невыносимым - и это, как вам может сказать любой, кто знал меня с подросткового возраста, еще одна вещь, в которой мне могла бы пригодиться некоторая помощь. В оптимальной ситуации, постоянно читая, вы просто учитесь лучше читать, и хотя это немаловажно, это не поможет тем из нас, кто хочет, скажем, выпрямить позвоночник и расправить плечи. Во всяком случае, все эти книги, вероятно, и ухудшили мою осанку.
Однако есть один жанр книг, который я никогда не изучал и который обещает иметь практическое значение: самопомощь. Как пишет Jessica Lamb-Shapiro в книге “Promise Land" («Земля обетованная») - увлекательное сострадательное исследование культуры самопомощи - «фраза «самопомощь» несет в себе некое клеймо среди умных, образованных взрослых». Автор книги утверждает, что это как-то связано с нашим нежеланием признать свою беспомощность, то есть нашу потребность в помощи. Основываясь только на своем собственном опыте, я бы сказал, что это во многом связано с простым снобизмом.
Я сноб, хотя мне хотелось бы, чтобы я им не был. Именно поэтому в этом году я собираюсь прочитать подборку канонических книг по самопомощи. Я планирую изучить исторические основы этого жанра, такие как «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», а также более поздние хиты, такие как «Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена. Я мог бы даже взять на себя часть анти-самопомощи от самопомощи, которую пытается реализовать Дженни Оделл в “How to Do Nothing” («Как ничего не делать»), хотя я тоже скептически отношусь к таким усилиям. Никто из тех, кто меня знает, не думает, что это будет легко. «Я не могу себе представить, чтобы вы читали эти книги», — сказал мне мой терапевт, когда я объяснял ему этот проект. Моя девушка была еще более резкой: «О нет», - написала она мне в сообщении.
Продолжение ⬇
Редактор "The Washington Post" Jacob Brogan решил провести год за чтением книг по саморазвитию, чтобы на себе проверить, насколько это эффективно:
"Позвольте мне быть с вами откровенным: мне не помешала бы небольшая помощь. Может быть, даже большая.
Как и большинство людей, в первый месяц года я с энтузиазмом принимаю решение в предстоящем году стать лучше. Следуя советам мудрых, обычно, я строю лишь скромные планы. И, как все вокруг, в итоге я терплю неудачу во всем, что намеревался сделать. В прошедшем году я поклялся покупать меньше одежды, что казалось достижимой целью, особенно с учетом того, что в моем шкафу нет места, в то время как на моем банковском счету слишком много пустого места. К несчастью, пока я писал этот абзац, я прервался, чтобы купить пару брюк и две футболки.
Скатываясь штопором по своему четвертому десятку, я все больше беспокоюсь о том, что, возможно, вообще не смогу больше измениться. Конечно, я бросил курить десять лет назад (и да, пять лет спустя сделал это снова). И, конечно, в начале пандемии я купил велотренажер, которым до сих пор иногда пользуюсь. Но было бы проще рассказать вам, в чем я всю жизнь был плох, несмотря на все усилия (ну ладно, несмотря на некоторые усилия) справиться с ними: я сутулюсь, я так и не придумал, как улыбаться на фотографиях, я не умею покупать подарки и писать благодарственные письма. Возможно, я слишком много пью. Я определенно сплетничаю больше, чем следовало бы. Мне часто бывает очень грустно.
Но если есть что-то, в чем я всегда был хорош (кроме, конечно, меланхолической скромности), так это чтение. И хотя оно обеспечило меня большей частью работы, оно мало что сделало для смягчения моих недостатков или предотвращения моих неудач. Вообще говоря, чтение большого количества книг в основном делает вас невыносимым - и это, как вам может сказать любой, кто знал меня с подросткового возраста, еще одна вещь, в которой мне могла бы пригодиться некоторая помощь. В оптимальной ситуации, постоянно читая, вы просто учитесь лучше читать, и хотя это немаловажно, это не поможет тем из нас, кто хочет, скажем, выпрямить позвоночник и расправить плечи. Во всяком случае, все эти книги, вероятно, и ухудшили мою осанку.
Однако есть один жанр книг, который я никогда не изучал и который обещает иметь практическое значение: самопомощь. Как пишет Jessica Lamb-Shapiro в книге “Promise Land" («Земля обетованная») - увлекательное сострадательное исследование культуры самопомощи - «фраза «самопомощь» несет в себе некое клеймо среди умных, образованных взрослых». Автор книги утверждает, что это как-то связано с нашим нежеланием признать свою беспомощность, то есть нашу потребность в помощи. Основываясь только на своем собственном опыте, я бы сказал, что это во многом связано с простым снобизмом.
Я сноб, хотя мне хотелось бы, чтобы я им не был. Именно поэтому в этом году я собираюсь прочитать подборку канонических книг по самопомощи. Я планирую изучить исторические основы этого жанра, такие как «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», а также более поздние хиты, такие как «Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена. Я мог бы даже взять на себя часть анти-самопомощи от самопомощи, которую пытается реализовать Дженни Оделл в “How to Do Nothing” («Как ничего не делать»), хотя я тоже скептически отношусь к таким усилиям. Никто из тех, кто меня знает, не думает, что это будет легко. «Я не могу себе представить, чтобы вы читали эти книги», — сказал мне мой терапевт, когда я объяснял ему этот проект. Моя девушка была еще более резкой: «О нет», - написала она мне в сообщении.
Продолжение ⬇
www.livelib.ru
Книга Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей — Дейл Карнеги
Читать книгу Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей ⏩Автор Дейл Карнеги. Год издания 2019. ✍️️Рецензии, цитаты. ⭐Возможность купить
Могут ли помочь книги по самопомощи? (продолжение).
Начало ⬆
Есть, конечно, и другие причины быть осторожным с этими книгами. Насколько я могу судить, основополагающая идея современной самопомощи заключается в том, что вы, читатель, постоянно сами себе мешаете. Эта литературная форма стоит одной ногой в магическом мышлении. Вера в то, что вы можете улучшить свою жизнь, формулируя лучшие, более позитивные мысли или привычки, неизбежно означает, что вы, а не, скажем, отталкивающие эффекты капитализма, являетесь своим злейшим врагом. Самопомощь — это теория заговора наоборот. Склонные к заговору объясняют хаос мира, выявляя злонамеренных Других, ответственных за его беды. Эта предпосылка предлагает извращенное утешение. Напротив, самопомощь говорит вам, что вы сами являетесь первоисточником всех ваших проблем, которые лишь случайно имеют внешние причины.
Кажется, что даже самые практичные рекомендации по самопомощи исходят из предположения, что развитие базовых привычек может изменить всю вашу жизнь к лучшему. В этой предпосылке есть намеренно зашоренный наивный оптимизм: нет, ваша работа не приносит прожиточного минимума, но что, если вы выработаете более крепкое рукопожатие? Конечно, изменение климата кажется плохим, но не задумывались ли вы заправлять постель?
Конечно, во всем этом есть небольшая истина. Я неохотно признаю, что спать по ночам приятнее, когда утром первым делом заправил постель. Но это не более чем бальзам на душу, потому что сам факт существования других людей и то, как они подводят нас, а мы - их, делает нас беспомощными. «Самое лучшее в самопомощи — это то, что она освобождает вас от необходимости нуждаться в других людях, — пишет Lamb-Shapiro. - Худшее в самопомощи то же самое».
Однако если я и сохраняю некоторую надежду на год самопомощи, то она связана не с существованием этих книг, а с их коллективным происхождением. Как объясняет профессор Гарварда Beth Blum в книге “The Self-Help Compulsion” («Принуждение к самопомощи») - яркой литературной истории этого жанра - термин "самопомощь" "был популяризирован в Соединенном Королевстве в руководствах по радикализации рабочего класса». В своих самых ранних формах в первой половине XIX века самопомощь формировалась из убеждения, что самосовершенствование может и должно помочь и другим. Это убеждение все еще было очевидно в основополагающей и чрезвычайно успешной книге Сэмюэля Смайлса «Саморазвитие умственное, нравственное и практическое», впервые опубликованной в 1859 году, которая сформировала современный жанр, даже несмотря на то, что она вдохновила многих последующих писателей на создание более нарциссических руководств. Сегодня, утверждает Blum, «эти два вида самопомощи — как инструмент деполитизации и как коллективная, самостоятельная стратегия выживания — продолжают конкурировать и сосуществовать».
Собираясь покорить стопку книг, хотя никто вокруг в это не верит, я ожидаю, что смогу найти в них, как заботиться о других. Я знаю, что нет никакой гарантии, что я получу что-нибудь от этого начинания. В конце концов, это всего лишь проект самосовершенствования, начатый в январе. Велика вероятность, что я откажусь от этого, как и от любого другого подобного начинания. Но, может быть, только может быть, мне, по крайней мере, удастся освободить несколько дюймов места в чулане, прежде чем я это сделаю."
Начало ⬆
Есть, конечно, и другие причины быть осторожным с этими книгами. Насколько я могу судить, основополагающая идея современной самопомощи заключается в том, что вы, читатель, постоянно сами себе мешаете. Эта литературная форма стоит одной ногой в магическом мышлении. Вера в то, что вы можете улучшить свою жизнь, формулируя лучшие, более позитивные мысли или привычки, неизбежно означает, что вы, а не, скажем, отталкивающие эффекты капитализма, являетесь своим злейшим врагом. Самопомощь — это теория заговора наоборот. Склонные к заговору объясняют хаос мира, выявляя злонамеренных Других, ответственных за его беды. Эта предпосылка предлагает извращенное утешение. Напротив, самопомощь говорит вам, что вы сами являетесь первоисточником всех ваших проблем, которые лишь случайно имеют внешние причины.
Кажется, что даже самые практичные рекомендации по самопомощи исходят из предположения, что развитие базовых привычек может изменить всю вашу жизнь к лучшему. В этой предпосылке есть намеренно зашоренный наивный оптимизм: нет, ваша работа не приносит прожиточного минимума, но что, если вы выработаете более крепкое рукопожатие? Конечно, изменение климата кажется плохим, но не задумывались ли вы заправлять постель?
Конечно, во всем этом есть небольшая истина. Я неохотно признаю, что спать по ночам приятнее, когда утром первым делом заправил постель. Но это не более чем бальзам на душу, потому что сам факт существования других людей и то, как они подводят нас, а мы - их, делает нас беспомощными. «Самое лучшее в самопомощи — это то, что она освобождает вас от необходимости нуждаться в других людях, — пишет Lamb-Shapiro. - Худшее в самопомощи то же самое».
Однако если я и сохраняю некоторую надежду на год самопомощи, то она связана не с существованием этих книг, а с их коллективным происхождением. Как объясняет профессор Гарварда Beth Blum в книге “The Self-Help Compulsion” («Принуждение к самопомощи») - яркой литературной истории этого жанра - термин "самопомощь" "был популяризирован в Соединенном Королевстве в руководствах по радикализации рабочего класса». В своих самых ранних формах в первой половине XIX века самопомощь формировалась из убеждения, что самосовершенствование может и должно помочь и другим. Это убеждение все еще было очевидно в основополагающей и чрезвычайно успешной книге Сэмюэля Смайлса «Саморазвитие умственное, нравственное и практическое», впервые опубликованной в 1859 году, которая сформировала современный жанр, даже несмотря на то, что она вдохновила многих последующих писателей на создание более нарциссических руководств. Сегодня, утверждает Blum, «эти два вида самопомощи — как инструмент деполитизации и как коллективная, самостоятельная стратегия выживания — продолжают конкурировать и сосуществовать».
Собираясь покорить стопку книг, хотя никто вокруг в это не верит, я ожидаю, что смогу найти в них, как заботиться о других. Я знаю, что нет никакой гарантии, что я получу что-нибудь от этого начинания. В конце концов, это всего лишь проект самосовершенствования, начатый в январе. Велика вероятность, что я откажусь от этого, как и от любого другого подобного начинания. Но, может быть, только может быть, мне, по крайней мере, удастся освободить несколько дюймов места в чулане, прежде чем я это сделаю."
www.livelib.ru
Книга «Саморазвитие умственное, нравственное и практическое»
Догматические поучения, даже иллюстрированные примерами, не достигают своей цели - улучшить поведение человека. Для того чтобы ее достигнуть,... Читать дальше...
Мемуары Жозе Сарамаго о детстве вдохновляют на создание иллюстрированных книг (начало).
Gregory Cowles - редактор "The New York Times" - рассказывает о книге "As Pequenas Memórias" («Маленькие воспоминания») нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (издайте это немедленно!), которая вышла еще в 2006 году, но до сих пор остаётся в центре внимания художников и издателей. В ней писатель говорит о крестьянской жизни, детских приключениях и о своих широко раскрытых глазах:
"В начале мемуаров Жозе Сарамаго рассказывает читателям, что сначала подумывал назвать их «Книга искушений». Причины для этого были труднопонимаемыми и очаровательными: что-то о Босхе, святости и толстой проститутке, которая «утомленным, равнодушным голосом» пригласила 12-летнего Сарамаго в свою комнату. (Он не сообщает о своем ответе, но, учитывая, насколько откровенна книга в других местах, можно с уверенностью предположить, что он отказался.) В конце концов, Жозе решил, что название «As Pequenas Memórias» лучше соответствует содержанию книги: «Ничего особенного, - с точки зрения самого Сарамаго, - просто небольшие воспоминания о временах, когда я был маленьким».
Но для великих писателей, конечно, не бывает мелких моментов, а Сарамаго (1922–2010), безусловно является одним из лучших. Прославленный своими аллегорическими романами такими, как «Слепота», «Книга имен» и «Перебои в смерти», он получил Нобелевскую премию по литературе в 1998 году и остается единственным португальским писателем, когда-либо сделавшим это.
Мемуары Сарамаго представляют собой очаровательный взгляд на свое взросление в маленькой деревне Азиньяга, а затем - в Лиссабоне.
Сочетая в себе рассказ о крестьянской жизни, детские приключения и удивления широко раскрытыми глазами, эта книга стала идеальной основой для пары новых книжек с картинками: “The Silence of Water” («Тишина воды»), иллюстрированная Yolanda Mosquera, и “An Unexpected Light” («Неожиданный свет»), иллюстрированная Armando Fonseca, которая выйдет чуть позже. Тексты книг взяты из мемуаров.
«Тишина воды» рассказывает историю маленького мальчика, который безуспешно ловил рыбу в местной реке, пока громадный усач не клюнул на наживку и не порвал леску, оставив мальчика с «нелепой, бесполезной удочкой» и упорным желанием отомстить: «Я решил побежать домой, взять еще леску, поплавок и грузило для своей удочки и вернуться, чтобы раз и навсегда свести счеты». План напрасный — даже мальчик называет его «самым абсурдным за всю мою жизнь» — но событие преподает ему урок о достоинстве и пределах смелости и решимости.
К счастью, эта история - также холст для текстурированных пейзажных иллюстраций Mosquera, на котором река и небо изображены волнистым белым цветом, а другие компоненты (мальчик, его собака, богатая растительность и разнообразные жители деревни) - слоистыми земляными тонами. В этих иллюстрациях присутствует достаточно старомодное ощущение, которое требует пристального внимания и включает в себя параллельные сюжетные линии и персонажей из мемуаров Сарамаго: девочка с косами, ловящая лягушку, молодая мать в платье в горошек, держащая за руку своего малыша.
Продолжение ⬇
Gregory Cowles - редактор "The New York Times" - рассказывает о книге "As Pequenas Memórias" («Маленькие воспоминания») нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (издайте это немедленно!), которая вышла еще в 2006 году, но до сих пор остаётся в центре внимания художников и издателей. В ней писатель говорит о крестьянской жизни, детских приключениях и о своих широко раскрытых глазах:
"В начале мемуаров Жозе Сарамаго рассказывает читателям, что сначала подумывал назвать их «Книга искушений». Причины для этого были труднопонимаемыми и очаровательными: что-то о Босхе, святости и толстой проститутке, которая «утомленным, равнодушным голосом» пригласила 12-летнего Сарамаго в свою комнату. (Он не сообщает о своем ответе, но, учитывая, насколько откровенна книга в других местах, можно с уверенностью предположить, что он отказался.) В конце концов, Жозе решил, что название «As Pequenas Memórias» лучше соответствует содержанию книги: «Ничего особенного, - с точки зрения самого Сарамаго, - просто небольшие воспоминания о временах, когда я был маленьким».
Но для великих писателей, конечно, не бывает мелких моментов, а Сарамаго (1922–2010), безусловно является одним из лучших. Прославленный своими аллегорическими романами такими, как «Слепота», «Книга имен» и «Перебои в смерти», он получил Нобелевскую премию по литературе в 1998 году и остается единственным португальским писателем, когда-либо сделавшим это.
Мемуары Сарамаго представляют собой очаровательный взгляд на свое взросление в маленькой деревне Азиньяга, а затем - в Лиссабоне.
Сочетая в себе рассказ о крестьянской жизни, детские приключения и удивления широко раскрытыми глазами, эта книга стала идеальной основой для пары новых книжек с картинками: “The Silence of Water” («Тишина воды»), иллюстрированная Yolanda Mosquera, и “An Unexpected Light” («Неожиданный свет»), иллюстрированная Armando Fonseca, которая выйдет чуть позже. Тексты книг взяты из мемуаров.
«Тишина воды» рассказывает историю маленького мальчика, который безуспешно ловил рыбу в местной реке, пока громадный усач не клюнул на наживку и не порвал леску, оставив мальчика с «нелепой, бесполезной удочкой» и упорным желанием отомстить: «Я решил побежать домой, взять еще леску, поплавок и грузило для своей удочки и вернуться, чтобы раз и навсегда свести счеты». План напрасный — даже мальчик называет его «самым абсурдным за всю мою жизнь» — но событие преподает ему урок о достоинстве и пределах смелости и решимости.
К счастью, эта история - также холст для текстурированных пейзажных иллюстраций Mosquera, на котором река и небо изображены волнистым белым цветом, а другие компоненты (мальчик, его собака, богатая растительность и разнообразные жители деревни) - слоистыми земляными тонами. В этих иллюстрациях присутствует достаточно старомодное ощущение, которое требует пристального внимания и включает в себя параллельные сюжетные линии и персонажей из мемуаров Сарамаго: девочка с косами, ловящая лягушку, молодая мать в платье в горошек, держащая за руку своего малыша.
Продолжение ⬇
Начало ⬆
Иллюстрации к детским книгам “The Silence of Water” («Тишина воды») и “An Unexpected Light” ("Неожиданный свет") по воспоминаниям Жозе Сарамаго
Продолжение ⬇
Иллюстрации к детским книгам “The Silence of Water” («Тишина воды») и “An Unexpected Light” ("Неожиданный свет") по воспоминаниям Жозе Сарамаго
Продолжение ⬇
Мемуары Жозе Сарамаго о детстве вдохновляют на создание иллюстрированных книг (продолжение).
Начало ⬆
Если «Молчание воды» рассказывает об ускользнувшем, то «Неожиданный свет», который будет опубликован этой весной, - о неожиданном знакомстве, которое откладывается.
В книге рассказывается история, которую Сарамаго дважды упоминает в «Маленьких воспоминаниях», о том, как он шел со своим дядей в город продавать поросят. Это путешествие длиной в дюжину миль — «четыре лиги страны со скоростью поросенка», — пишет Сарамаго, — и поэтому им двоим по середине пути приходится провести ночь на ферме, спать в яслях, как святому семейству. Когда дядя будит его ранним утром, юный Сарамаго с изумлением обнаруживает «молочный свет над ночью и окружающим пейзажем» от огромной белой луны, и он понимает, что подобное он больше никогда не увидит. Близость и яркость этой луны поражают его со всей силой.
Эту историю сопровождают иллюстрации Fonseca, выполненные тушью и акварелью. Их темная палитра серых и черных тонов является подходящим дополнением к мечтательной угрюмости Сарамаго — хотя их причудливость и чувство движения больше напоминают Матисса, чем Босха. На одном рисунке свиньи кажутся танцующими на холмах. На другом - мальчик или его дядя цепляется за стебель фантастического растения, чтобы его не унесло ветром.
Помимо приглушенных цветов и сказочного пейзажа, Fonseca передает ночную атмосферу истории с падающими звездами и кружащимися созвездиями, похожими на геометрические каракули. Появляющаяся луна так велика, что ее верхушка срезается краем страницы; по сравнению с ней мальчик и его дядя настолько незначительны, что почти теряются среди окружающих их растений.
«Неожиданный свет» заканчивается сценой, которую я не помнил из мемуаров и не смог найти, когда искал: мальчик и его дядя, возвращаясь домой, попадают под ливень, который полностью окружает их, но каким-то образом оставляет их сухими.
«Никто не мог видеть меня, но я мог видеть весь мир, — говорит Сарамаго. - Именно тогда я поклялся себе, что никогда не умру».
В мемуарах тоже есть ливень, но он не обещает бессмертия. Из проливного дождя в воспоминаниях появляется размытая фигура деда Сарамаго, который ранее в повествовании убеждал промокшего Сарамаго продолжать работать и во время шторма, а теперь продолжает предсказывать свою собственную смерть.
Я не могу понять, почему издатели решили заменить исходную сцену новой (которая, предположительно, взята из какого-то другого места из обширного наследия Сарамаго), если только здесь не обыгран какой-то религиозный подтекст, чтобы закончить историю на оптимистичной ноте.
Я не уверен, что им это стоило делать. В конце концов, люди умирают, и Сарамаго не является исключением.
Один вывод из его воспоминаний состоит в том, что дети знают больше, чем им приписывают, и в большей степени готовы принять это.
По-своему, это также неявное послание «Тишины воды», в котором молодой рыбак сталкивается лицом к лицу с тяжестью разочарования. Сарамаго больше, чем кто-либо другой, знал, что даже в пустой строке можно найти утешение. Ни один час из проведенных им у реки, не был напрасным, пишет он в «Маленьких воспоминаниях», потому что, «незаметно для себя, я «вылавливал» вещи, которые будут столь же важны для меня в будущем: образы, запахи, звуки, мягкий ветерок, ощущения».
Сарамаго, возможно, и ушел, но приятно видеть, что его работы возрождаются для нового поколения."
Начало ⬆
Если «Молчание воды» рассказывает об ускользнувшем, то «Неожиданный свет», который будет опубликован этой весной, - о неожиданном знакомстве, которое откладывается.
В книге рассказывается история, которую Сарамаго дважды упоминает в «Маленьких воспоминаниях», о том, как он шел со своим дядей в город продавать поросят. Это путешествие длиной в дюжину миль — «четыре лиги страны со скоростью поросенка», — пишет Сарамаго, — и поэтому им двоим по середине пути приходится провести ночь на ферме, спать в яслях, как святому семейству. Когда дядя будит его ранним утром, юный Сарамаго с изумлением обнаруживает «молочный свет над ночью и окружающим пейзажем» от огромной белой луны, и он понимает, что подобное он больше никогда не увидит. Близость и яркость этой луны поражают его со всей силой.
Эту историю сопровождают иллюстрации Fonseca, выполненные тушью и акварелью. Их темная палитра серых и черных тонов является подходящим дополнением к мечтательной угрюмости Сарамаго — хотя их причудливость и чувство движения больше напоминают Матисса, чем Босха. На одном рисунке свиньи кажутся танцующими на холмах. На другом - мальчик или его дядя цепляется за стебель фантастического растения, чтобы его не унесло ветром.
Помимо приглушенных цветов и сказочного пейзажа, Fonseca передает ночную атмосферу истории с падающими звездами и кружащимися созвездиями, похожими на геометрические каракули. Появляющаяся луна так велика, что ее верхушка срезается краем страницы; по сравнению с ней мальчик и его дядя настолько незначительны, что почти теряются среди окружающих их растений.
«Неожиданный свет» заканчивается сценой, которую я не помнил из мемуаров и не смог найти, когда искал: мальчик и его дядя, возвращаясь домой, попадают под ливень, который полностью окружает их, но каким-то образом оставляет их сухими.
«Никто не мог видеть меня, но я мог видеть весь мир, — говорит Сарамаго. - Именно тогда я поклялся себе, что никогда не умру».
В мемуарах тоже есть ливень, но он не обещает бессмертия. Из проливного дождя в воспоминаниях появляется размытая фигура деда Сарамаго, который ранее в повествовании убеждал промокшего Сарамаго продолжать работать и во время шторма, а теперь продолжает предсказывать свою собственную смерть.
Я не могу понять, почему издатели решили заменить исходную сцену новой (которая, предположительно, взята из какого-то другого места из обширного наследия Сарамаго), если только здесь не обыгран какой-то религиозный подтекст, чтобы закончить историю на оптимистичной ноте.
Я не уверен, что им это стоило делать. В конце концов, люди умирают, и Сарамаго не является исключением.
Один вывод из его воспоминаний состоит в том, что дети знают больше, чем им приписывают, и в большей степени готовы принять это.
По-своему, это также неявное послание «Тишины воды», в котором молодой рыбак сталкивается лицом к лицу с тяжестью разочарования. Сарамаго больше, чем кто-либо другой, знал, что даже в пустой строке можно найти утешение. Ни один час из проведенных им у реки, не был напрасным, пишет он в «Маленьких воспоминаниях», потому что, «незаметно для себя, я «вылавливал» вещи, которые будут столь же важны для меня в будущем: образы, запахи, звуки, мягкий ветерок, ощущения».
Сарамаго, возможно, и ушел, но приятно видеть, что его работы возрождаются для нового поколения."
Telegram
Интриги книги
Мемуары Жозе Сарамаго о детстве вдохновляют на создание иллюстрированных книг (начало).
Gregory Cowles - редактор "The New York Times" - рассказывает о книге "As Pequenas Memórias" («Маленькие воспоминания») нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (издайте…
Gregory Cowles - редактор "The New York Times" - рассказывает о книге "As Pequenas Memórias" («Маленькие воспоминания») нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (издайте…
Урок экономики от Льва Толстого (начало).
В "The New Yorker" опубликована глава из книги Nick Romeo “The Alternative: How to Build a Just Economy” («Альтернатива: как построить справедливую экономику»), посвященная Льву Толстому, который считал, что экономика с неизбежностью пропитана моралью и политикой:
"В 1886 году Лев Толстой опубликовал рассказ "Много ли человеку земли нужно". Его главный герой - бедный крестьянин по имени Пахом - мечтает стать помещиком: «Будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!» Чорт, выслушав это, подумал: «Ладно, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».
Занял Пахом денег, чтобы больше земли купить. Занялся разведением скота, выращиванием кукурузы и стал преуспевающим. Затем Пахом выгодно продал свои земли и переехал в новый район, где большие участки продавали по низким ценам. На какое-то время стал он довольным, но по мере привыкания к своему новому процветанию, удовлетворенность положением начала снижаться. Ему по-прежнему приходилось арендовать землю для выращивания пшеницы, и ссориться с более бедными людьми из-за той же земли. Имей он еще больше земли, все станет проще.
Вскоре Пахом услыхал о башкирах - далекой общине людей, которые живут на плодородной равнине у реки и продают землю почти за бесценок. Он купил чай, вино и другие подарки и поехал к ним. Их старшина объяснил, что они продают землю за день: за мизерную цену в тысячу рублей Пахом может иметь столько земли, сколько он сможет пройти за день ходьбы, при условии, что он вернется в исходную точку до захода солнца. На следующее утро Пахом отправился в путь по степи. Чем дальше он шел, тем лучше ему казалась земля. Он шел все быстрее и быстрее, все дальше и дальше, соблазняясь перспективами. Вот солнце заскользило к горизонту. Пахом повернул назад, уже чувствуя усталость. Его ноги покрылись синяками, сердце заколотилось, рубашка и брюки промокли от пота. С больными ногами он бросился вверх по холму к старшине, который воскликнул: «Много земли завоевал!» Но Пахом уже рухнул, изо рта у него потекла струйка крови. Башкиры от жалости зацокали языками, а слуга Пахома взял лопату и вырыл могилу длиной в три аршина. На вопрос, вынесенный в заголовок рассказа, ответ получен: это и есть вся земля, которая нужна человеку.
Толстой не был экономистом; на самом деле, он был настолько расточителен, что однажды проиграл в карточную игру сельское имение своей семьи. Но рассказ «Много ли человеку земли нужно» содержит множество идей о деньгах, психологии и экономическом мышлении. Пахом, добивающийся развития любой ценой, стремится исключительно к максимизации своей прибыли; он неустанно перемещается в новые регионы с большими возможностями, игнорируя негативные «внешние факторы», такие как истощенная почва и ущерб, который он наносит своим связям. Какое-то время цикл расширения выглядит успешным, и на каждом этапе у Пахома есть веские причины для расширения. Его соседи неприятны; отказ от аренды более эффективен; хорошая земля стоит дешево. В узком смысле он ведет себя рационально.
Но серия, казалось бы, рациональных решений неожиданно завершается катастрофой. На каждом новом уровне богатства вместо того, чтобы наслаждаться уже имеющимися ресурсами, Пахом быстро становится неудовлетворенным, возвращаясь к прежнему уровню счастья. В конце истории, когда он сильно утомлен, он может легко отказаться от своей тысячи рублей, отдохнуть в траве, а затем неторопливо вернуться к исходной точке. Однако он считает, что вложил так много сил, что было бы глупо останавливаться, и продолжает вкладывать все больше энергии в обреченное начинание. За несколько мгновений до смерти Пахом осознает свою существенную ошибку. "Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал?». Как могло просчитанное коммерческое предприятие привести к такому ужасному провалу?
Продолжение ⬇
В "The New Yorker" опубликована глава из книги Nick Romeo “The Alternative: How to Build a Just Economy” («Альтернатива: как построить справедливую экономику»), посвященная Льву Толстому, который считал, что экономика с неизбежностью пропитана моралью и политикой:
"В 1886 году Лев Толстой опубликовал рассказ "Много ли человеку земли нужно". Его главный герой - бедный крестьянин по имени Пахом - мечтает стать помещиком: «Будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!» Чорт, выслушав это, подумал: «Ладно, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».
Занял Пахом денег, чтобы больше земли купить. Занялся разведением скота, выращиванием кукурузы и стал преуспевающим. Затем Пахом выгодно продал свои земли и переехал в новый район, где большие участки продавали по низким ценам. На какое-то время стал он довольным, но по мере привыкания к своему новому процветанию, удовлетворенность положением начала снижаться. Ему по-прежнему приходилось арендовать землю для выращивания пшеницы, и ссориться с более бедными людьми из-за той же земли. Имей он еще больше земли, все станет проще.
Вскоре Пахом услыхал о башкирах - далекой общине людей, которые живут на плодородной равнине у реки и продают землю почти за бесценок. Он купил чай, вино и другие подарки и поехал к ним. Их старшина объяснил, что они продают землю за день: за мизерную цену в тысячу рублей Пахом может иметь столько земли, сколько он сможет пройти за день ходьбы, при условии, что он вернется в исходную точку до захода солнца. На следующее утро Пахом отправился в путь по степи. Чем дальше он шел, тем лучше ему казалась земля. Он шел все быстрее и быстрее, все дальше и дальше, соблазняясь перспективами. Вот солнце заскользило к горизонту. Пахом повернул назад, уже чувствуя усталость. Его ноги покрылись синяками, сердце заколотилось, рубашка и брюки промокли от пота. С больными ногами он бросился вверх по холму к старшине, который воскликнул: «Много земли завоевал!» Но Пахом уже рухнул, изо рта у него потекла струйка крови. Башкиры от жалости зацокали языками, а слуга Пахома взял лопату и вырыл могилу длиной в три аршина. На вопрос, вынесенный в заголовок рассказа, ответ получен: это и есть вся земля, которая нужна человеку.
Толстой не был экономистом; на самом деле, он был настолько расточителен, что однажды проиграл в карточную игру сельское имение своей семьи. Но рассказ «Много ли человеку земли нужно» содержит множество идей о деньгах, психологии и экономическом мышлении. Пахом, добивающийся развития любой ценой, стремится исключительно к максимизации своей прибыли; он неустанно перемещается в новые регионы с большими возможностями, игнорируя негативные «внешние факторы», такие как истощенная почва и ущерб, который он наносит своим связям. Какое-то время цикл расширения выглядит успешным, и на каждом этапе у Пахома есть веские причины для расширения. Его соседи неприятны; отказ от аренды более эффективен; хорошая земля стоит дешево. В узком смысле он ведет себя рационально.
Но серия, казалось бы, рациональных решений неожиданно завершается катастрофой. На каждом новом уровне богатства вместо того, чтобы наслаждаться уже имеющимися ресурсами, Пахом быстро становится неудовлетворенным, возвращаясь к прежнему уровню счастья. В конце истории, когда он сильно утомлен, он может легко отказаться от своей тысячи рублей, отдохнуть в траве, а затем неторопливо вернуться к исходной точке. Однако он считает, что вложил так много сил, что было бы глупо останавливаться, и продолжает вкладывать все больше энергии в обреченное начинание. За несколько мгновений до смерти Пахом осознает свою существенную ошибку. "Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал?». Как могло просчитанное коммерческое предприятие привести к такому ужасному провалу?
Продолжение ⬇
The New Yorker
An Economics Lesson from Tolstoy
The Russian novelist believed that the dismal science was inescapably suffused with morality and politics.
Урок экономики от Льва Толстого (продолжение).
Начало ⬆
Чтобы понять несчастье Пахома, можно сказать, что он не мог ясно мыслить. Сегодня поведенческие экономисты, изучающие психологию экономической жизни, говорят о «гедонистической беговой дорожке» и о "ошибке невозвратных издержек", считая их провалами в рассуждениях; они, вероятно, скажут, что Пахом становится жертвой этих ошибочных стереотипов мышления. Но Толстой оценивал эти промахи по-другому, как риски в среде моральных возможностей. Сам Дьявол использует их, чтобы получить власть над душой Пахома; корыстные стремления, на которые он вдохновляет, имеют моральные последствия, деформируя убеждения и поведение Пахома. До вмешательства Дьявола у Пахома были скромные ценности: «у мужика живот тонок, да долог», — говорит его сестра в начале рассказа. «Богаты не будем, да сыты будем». Ему была доступна жизнь, не обремененная саморазрушительной жадностью. Тем не менее, в конце истории резко ограниченный интерес башкиров к богатству кажется Пахому не вызовом его собственным ценностям, а возможностью для бизнеса; он воспринимает местных крестьян не как мудрых, а как «невежественных».
Толстой находил мораль в экономическом мышлении. Было время, когда ведущие экономисты тоже это видели. «С каждым днём кажется всё более очевидным, что моральная проблема нашего времени связана с любовью к деньгам», — писал экономист Джон Мейнард Кейнс в 1925 году. Кейнс, как и Толстой, признавал, что многие важные темы экономики неизбежно являются моральными и политическими: «магистр-экономист, - писал он по другому поводу, - должен быть в некоторой степени и математиком, и историком, государственным деятелем, и философом». С оптимизмом, который оказался преждевременным, Кейнс описал будущее, когда «любовь к деньгам как собственности – в отличие от любви к деньгам как средству получения наслаждений и реалий жизни – будет признана такой, какая она есть, – несколько отвратительной болезнью». Критикуя «декадентскую» и «индивидуалистическую» природу международного капитализма после Первой мировой войны, он писал: «Капитализм не разумен, не прекрасен, не справедлив и не добродетелен».
Сегодня трудно представить, чтобы большая часть ведущих экономистов использовала такой моральный и эстетический язык. Вместо этого экономика опирается на технократический, квазинаучный словарь, который затеняет этические и политические вопросы, лежащие в основе дисциплины. Например, в эссе 1953 года Милтон Фридман утверждал, что экономика может быть «объективной» наукой точно в том же смысле, что и физические науки. Бесчисленное множество других экономистов впоследствии приняли эту точку зрения, для которой моральные оценки Кейнса, Толстого или кого-либо еще не имели значения. Использование математических методов, как образец научной беспристрастности, позволяет ведущим экономистам проносить в политику и дискурс всевозможные сомнительные утверждения — о том, что экономический рост требует высокого неравенства, что усиление концентрации корпораций неизбежно или что людей можно мотивировать к работе, только когда они находятся в отчаянном положении. Это становится оправданием сохранения статус-кво, который представляется результатом неизбежных и непреложных «законов». Как гласит знаменитая фраза Маргарет Тэтчер: «Альтернативы нет».
И все же некоторые экономисты, возрождая взгляды Кейнса и Толстого, оказались открытыми к идее о том, что экономика является отраслью политической философии. Томас Пикетти описал «мощную иллюзию вечной стабильности, к которой иногда приводит необдуманное использование математики в социальных науках». Экономист Альберт Хиршман предположил, что представители высшего общества часто стремятся «впечатлить широкую общественность», заявляя, что их статус является «неизбежным результатом текущих процессов». Он продолжил: «После такого количества неудачных пророчеств, разве не в интересах социальных наук пожертвовать хотя бы притязаниями на предсказательную силу?»
Продолжение ⬇
Начало ⬆
Чтобы понять несчастье Пахома, можно сказать, что он не мог ясно мыслить. Сегодня поведенческие экономисты, изучающие психологию экономической жизни, говорят о «гедонистической беговой дорожке» и о "ошибке невозвратных издержек", считая их провалами в рассуждениях; они, вероятно, скажут, что Пахом становится жертвой этих ошибочных стереотипов мышления. Но Толстой оценивал эти промахи по-другому, как риски в среде моральных возможностей. Сам Дьявол использует их, чтобы получить власть над душой Пахома; корыстные стремления, на которые он вдохновляет, имеют моральные последствия, деформируя убеждения и поведение Пахома. До вмешательства Дьявола у Пахома были скромные ценности: «у мужика живот тонок, да долог», — говорит его сестра в начале рассказа. «Богаты не будем, да сыты будем». Ему была доступна жизнь, не обремененная саморазрушительной жадностью. Тем не менее, в конце истории резко ограниченный интерес башкиров к богатству кажется Пахому не вызовом его собственным ценностям, а возможностью для бизнеса; он воспринимает местных крестьян не как мудрых, а как «невежественных».
Толстой находил мораль в экономическом мышлении. Было время, когда ведущие экономисты тоже это видели. «С каждым днём кажется всё более очевидным, что моральная проблема нашего времени связана с любовью к деньгам», — писал экономист Джон Мейнард Кейнс в 1925 году. Кейнс, как и Толстой, признавал, что многие важные темы экономики неизбежно являются моральными и политическими: «магистр-экономист, - писал он по другому поводу, - должен быть в некоторой степени и математиком, и историком, государственным деятелем, и философом». С оптимизмом, который оказался преждевременным, Кейнс описал будущее, когда «любовь к деньгам как собственности – в отличие от любви к деньгам как средству получения наслаждений и реалий жизни – будет признана такой, какая она есть, – несколько отвратительной болезнью». Критикуя «декадентскую» и «индивидуалистическую» природу международного капитализма после Первой мировой войны, он писал: «Капитализм не разумен, не прекрасен, не справедлив и не добродетелен».
Сегодня трудно представить, чтобы большая часть ведущих экономистов использовала такой моральный и эстетический язык. Вместо этого экономика опирается на технократический, квазинаучный словарь, который затеняет этические и политические вопросы, лежащие в основе дисциплины. Например, в эссе 1953 года Милтон Фридман утверждал, что экономика может быть «объективной» наукой точно в том же смысле, что и физические науки. Бесчисленное множество других экономистов впоследствии приняли эту точку зрения, для которой моральные оценки Кейнса, Толстого или кого-либо еще не имели значения. Использование математических методов, как образец научной беспристрастности, позволяет ведущим экономистам проносить в политику и дискурс всевозможные сомнительные утверждения — о том, что экономический рост требует высокого неравенства, что усиление концентрации корпораций неизбежно или что людей можно мотивировать к работе, только когда они находятся в отчаянном положении. Это становится оправданием сохранения статус-кво, который представляется результатом неизбежных и непреложных «законов». Как гласит знаменитая фраза Маргарет Тэтчер: «Альтернативы нет».
И все же некоторые экономисты, возрождая взгляды Кейнса и Толстого, оказались открытыми к идее о том, что экономика является отраслью политической философии. Томас Пикетти описал «мощную иллюзию вечной стабильности, к которой иногда приводит необдуманное использование математики в социальных науках». Экономист Альберт Хиршман предположил, что представители высшего общества часто стремятся «впечатлить широкую общественность», заявляя, что их статус является «неизбежным результатом текущих процессов». Он продолжил: «После такого количества неудачных пророчеств, разве не в интересах социальных наук пожертвовать хотя бы притязаниями на предсказательную силу?»
Продолжение ⬇
Telegram
Интриги книги
Урок экономики от Льва Толстого (начало).
В "The New Yorker" опубликована глава из книги Nick Romeo “The Alternative: How to Build a Just Economy” («Альтернатива: как построить справедливую экономику»), посвященная Льву Толстому, который считал, что экономика…
В "The New Yorker" опубликована глава из книги Nick Romeo “The Alternative: How to Build a Just Economy” («Альтернатива: как построить справедливую экономику»), посвященная Льву Толстому, который считал, что экономика…
Урок экономики от Льва Толстого (окончание).
Начало ⬆
В 1900 году в книге «Рабство нашего времени» Лев Толстой сделал некоторые аналогичные замечания. «В конце XVIII века народы Европы начали мало-помалу понимать, что то, что казалось естественной и неизбежной формой экономической жизни, а именно положение крестьян, находившихся целиком во власти своих господ, было неправильным. несправедливым, аморальным и требовало перемен», — писал он. Вы не можете изменить законы физики. Однако вы можете изменить правила экономической игры.
Но как нам их изменить? Можно представить будущее, в котором люди будут оглядываться назад на бесспорно ошибочные экономические системы, которые не отражают истинную цену товаров, включая их влияние на рабочих, мир природы и будущие поколения. Они могут рассматривать нынешние модели корпоративной собственности, которые допускают, например, чрезвычайную концентрацию власти и богатства, как абсурдные. Но что придет им на смену? Каковы реальные альтернативы? Подход Толстого вряд ли покажется нам привлекательным: он концентрируется по большей части на моральных и духовных реформах.
И все же экономику и мораль можно объединить, приняв такие экономические модели и политику, которые смогут придать осязаемую реальность пустым словам о том, что лучший мир возможен. Более того, мощные элементы более справедливой и устойчивой экономики уже существуют. Нет более сильного ответа на обвинения в утопизме, чем демонстрация уже работающих моделей. Например, мэры и другие выборные должностные лица могут сами внедрять климатический бюджет или формировать совместное бюджетирование, не внося радикальных изменений в другие правительственные органы. Чиновники Министерства труда могут оказать помощь в создании публичных рынков для нелегальных работников: в конце концов, системы подработки в частном секторе, такие как Uber, уже существуют. Владельцы бизнесов могут перейти к новым структурам собственности (как это сделала Патагония в 2022 году) или начать продавать товары по реальным ценам. Инвесторы могут использовать свой капитал для сокращения неравенства. Профессора экономики и бизнеса могут объяснять студентам и общественности альтернативные подходы. И простые люди, не занимающие высоких должностей, могут поддержать эти усилия. Город Мондрагон на севере Испании является домом для крупнейшей в мире интегрированной сети рабочих и кооперативов, а также экспериментирует с коллективным бюджетированием. Город Амстердам, где зародилось истинное ценообразование, также применяет климатическое бюджетирование. И многие предприятия с долевой собственностью уже платят работникам реальный прожиточный минимум. Реальные люди живут представлением об экономике как о месте с моральными устоями и ответственностью, а не как о свободной от ценностей, саморегулирующейся зоне неизменных законов.
В 1933 году, незадолго до открытия Всемирной экономической конференции, Кейнс выступил перед радиоаудиторией. «Мировые потребности в отчаянном положении, - сказал он. - Мы все плохо управляли своими делами. Мы ужасно живем в мире величайшего потенциального изобилия». Его вопрос об экономистах звучал так: «Не является ли нынешнее шокирующее состояние мира отчасти следствием проявленного ими недостатка воображения?» Толстой не был экономистом, но он смог преподать нам ценный экономический урок. Мы должны перенести наше представление об экономике из безличной сферы абстрактных сил на человеческую арену этических решений. Поступать иначе, перефразируя Кейнса, значит поступать неразумно, некрасиво, несправедливо и недобродетельно."
Начало ⬆
В 1900 году в книге «Рабство нашего времени» Лев Толстой сделал некоторые аналогичные замечания. «В конце XVIII века народы Европы начали мало-помалу понимать, что то, что казалось естественной и неизбежной формой экономической жизни, а именно положение крестьян, находившихся целиком во власти своих господ, было неправильным. несправедливым, аморальным и требовало перемен», — писал он. Вы не можете изменить законы физики. Однако вы можете изменить правила экономической игры.
Но как нам их изменить? Можно представить будущее, в котором люди будут оглядываться назад на бесспорно ошибочные экономические системы, которые не отражают истинную цену товаров, включая их влияние на рабочих, мир природы и будущие поколения. Они могут рассматривать нынешние модели корпоративной собственности, которые допускают, например, чрезвычайную концентрацию власти и богатства, как абсурдные. Но что придет им на смену? Каковы реальные альтернативы? Подход Толстого вряд ли покажется нам привлекательным: он концентрируется по большей части на моральных и духовных реформах.
И все же экономику и мораль можно объединить, приняв такие экономические модели и политику, которые смогут придать осязаемую реальность пустым словам о том, что лучший мир возможен. Более того, мощные элементы более справедливой и устойчивой экономики уже существуют. Нет более сильного ответа на обвинения в утопизме, чем демонстрация уже работающих моделей. Например, мэры и другие выборные должностные лица могут сами внедрять климатический бюджет или формировать совместное бюджетирование, не внося радикальных изменений в другие правительственные органы. Чиновники Министерства труда могут оказать помощь в создании публичных рынков для нелегальных работников: в конце концов, системы подработки в частном секторе, такие как Uber, уже существуют. Владельцы бизнесов могут перейти к новым структурам собственности (как это сделала Патагония в 2022 году) или начать продавать товары по реальным ценам. Инвесторы могут использовать свой капитал для сокращения неравенства. Профессора экономики и бизнеса могут объяснять студентам и общественности альтернативные подходы. И простые люди, не занимающие высоких должностей, могут поддержать эти усилия. Город Мондрагон на севере Испании является домом для крупнейшей в мире интегрированной сети рабочих и кооперативов, а также экспериментирует с коллективным бюджетированием. Город Амстердам, где зародилось истинное ценообразование, также применяет климатическое бюджетирование. И многие предприятия с долевой собственностью уже платят работникам реальный прожиточный минимум. Реальные люди живут представлением об экономике как о месте с моральными устоями и ответственностью, а не как о свободной от ценностей, саморегулирующейся зоне неизменных законов.
В 1933 году, незадолго до открытия Всемирной экономической конференции, Кейнс выступил перед радиоаудиторией. «Мировые потребности в отчаянном положении, - сказал он. - Мы все плохо управляли своими делами. Мы ужасно живем в мире величайшего потенциального изобилия». Его вопрос об экономистах звучал так: «Не является ли нынешнее шокирующее состояние мира отчасти следствием проявленного ими недостатка воображения?» Толстой не был экономистом, но он смог преподать нам ценный экономический урок. Мы должны перенести наше представление об экономике из безличной сферы абстрактных сил на человеческую арену этических решений. Поступать иначе, перефразируя Кейнса, значит поступать неразумно, некрасиво, несправедливо и недобродетельно."
www.livelib.ru
Рабство нашего времени, Лев Толстой - читать онлайн
Предлагаем вашему вниманию книгу «Рабство нашего времени» - ⏩Автор Лев Толстой - ⭐Возможно читать онлайн
Пару недель назад в "Форме Слов" вышел богатый материал по итогам литературного 2023 года: I часть и II часть.
Много ценной информации. Обратил внимание на книгу, изданную в Ad Marginem, которую прочитал в свое время на английском языке, а вот на русском заметил только что: Теджу Коул "Открытый город".
Автора сравнивают с Зебальдом и есть за что.
Хочется верить, что перевода его новой книги - "Tremor" - не придется ждать долго.
Много ценной информации. Обратил внимание на книгу, изданную в Ad Marginem, которую прочитал в свое время на английском языке, а вот на русском заметил только что: Теджу Коул "Открытый город".
Автора сравнивают с Зебальдом и есть за что.
Хочется верить, что перевода его новой книги - "Tremor" - не придется ждать долго.
Формаслов
Литературные итоги 2023 года. Часть I - Формаслов
Литературные итоги 2023 года. На вопросы отвечают Михаил Визель, Дмитрий Бавильский, Ольга Седакова, Николай Подосокорский, Кирилл Анкудинов, Александр Чанцев, Вера Зубарева, Елена Погорелая, Вадим Муратханов.
Как написать художественную книгу о "настоящем" преступлении (начало).
Kate Brody - автор детектива "Rabbit Hole" ("Кроличья нора") - размышляет о том, как создать по-настоящему захватывающий криминальный роман:
"Если вы в своей художественной книге собираетесь описать сенсационную криминальную историю, достойную новостей, то вы можете использовать несколько моделей:
1) модель «Исчезнувшая». Используйте в качестве вдохновения реальное преступление, как в случае с книгой Флинн - исчезновение Laci Peterson — и позвольте себе вольности. Меняйте имена, предысторию персонажей и важные элементы сюжета. Можно подкрутить концовку. Позвольте вашим читателям ощутить узнаваемость хотя бы в небольшой степени, но сделайте историю своей собственной. Писатели, проделавшие такое — Элиза Кларк в "Penance" («Покаянии»), Эмма Клайн в «Девочках», Alexis Schaitkin в "Saint X" («Святой Икс») — обычно интересуются не самим преступлением, а человеческой драмой, стоящей за ним. Они, как и все мы, наблюдали за этими событиями в реальной жизни и интересовались тем, что мы не видели. Они задавались вопросом, как человек превращается из милой обычной школьницы в члена культа. Они написали, как это происходит. Глубоко внутри причудливых и преувеличенных историй они нашли скрытую правду, которую могла создать только фантазия.
2) вы можете использовать реальное преступление в качестве вдохновения, оставляя факты такими, какие они есть. Среди авторов, сделавших это: Джессика Нолл с книгой "Bright Young Women" («Яркие молодые женщины») и Willa C. Richards с книгой "The Comfort of Monsters" («Утешение монстров»). Этих авторов интересуют преступления, но их не интересует основная история. Их тексты вносят коррективы в культурные мифы. Нолл, например, ставит под сомнение «очаровательный» рассказ Bundy и уводит внимание в сторону от самого мужчины, возвращаясь к его последним жертвам - молодым женщинам из названия книги. В книге Richards, действие которой происходит в Миннеаполисе во время “лета Дамера”, даже не упоминается имя известного убийцы. Стоит отметить, что Richards также не вдается в подробности ужасных преступлений. Вместо этого она смотрит на то, как раса, класс и пол определяют, кто достоин стать жертвой, и исследует влияние привлекающей внимание трагедии, такой как убийства Дамера, на все сообщество. Настоящая художественная работа состоит в том, чтобы заполнить поля, уменьшить масштаб и расширить наш взгляд за пределы того, что фиксируют новостные камеры.
3) вы все выдумываете сами. Когда я начинала "Rabbit Hole" («Кроличья нора»), я знала, что мне понадобится исчезновение, но я не хотела использовать в качестве основы настоящее преступление. Конечно, я, как и любой романист, заимствовала детали из реальной жизни. (Например, я на короткое время была одержима тем фактом, что Hunter Biden какое-то время встречался с вдовой своего брата, и использовала этот факт как вдохновение для описания политической семьи, лежащей в основе книги). Но меня больше интересовала машина — сама индустрия — настоящих преступлений в 21 веке, чем любое реальное исчезновение. Я имею в виду следующее: я начала подвергать сомнению свой интерес к этому жанру.
Я с раннего детства читала криминальную литературу — Кэролайн Кин, Кристофера Пайка и Стивена Кинга, — но к настоящим преступлениям я пришла, когда мне было 20 с лишним, прочитав классику нон-фикшн: «Хладнокровное убийство», «Хелтер Скелтер» и "Popular Crime" («Популярное преступление»). Они были бальзамом по сравнению с серьезной литературой, которую мне приходилось читать в колледже, в аспирантуре и работая учителем английского языка в средней школе. Эти книги были веселыми, информативными и динамичными. От книг я быстро перешла к подкастам, основанным на рекомендациях друзей, и к таким популярным материалам, как "Serial". В визуальном медиа в конце 2010-х последовал настоящий криминальный бум: "The Jinx" ("Тайны миллиардера"), "Making a Murderer" ("Создавая убийцу") и перезагрузка "Unsolved Mysteries" ("Неразгаданные тайны").
Продолжение ⬇
Kate Brody - автор детектива "Rabbit Hole" ("Кроличья нора") - размышляет о том, как создать по-настоящему захватывающий криминальный роман:
"Если вы в своей художественной книге собираетесь описать сенсационную криминальную историю, достойную новостей, то вы можете использовать несколько моделей:
1) модель «Исчезнувшая». Используйте в качестве вдохновения реальное преступление, как в случае с книгой Флинн - исчезновение Laci Peterson — и позвольте себе вольности. Меняйте имена, предысторию персонажей и важные элементы сюжета. Можно подкрутить концовку. Позвольте вашим читателям ощутить узнаваемость хотя бы в небольшой степени, но сделайте историю своей собственной. Писатели, проделавшие такое — Элиза Кларк в "Penance" («Покаянии»), Эмма Клайн в «Девочках», Alexis Schaitkin в "Saint X" («Святой Икс») — обычно интересуются не самим преступлением, а человеческой драмой, стоящей за ним. Они, как и все мы, наблюдали за этими событиями в реальной жизни и интересовались тем, что мы не видели. Они задавались вопросом, как человек превращается из милой обычной школьницы в члена культа. Они написали, как это происходит. Глубоко внутри причудливых и преувеличенных историй они нашли скрытую правду, которую могла создать только фантазия.
2) вы можете использовать реальное преступление в качестве вдохновения, оставляя факты такими, какие они есть. Среди авторов, сделавших это: Джессика Нолл с книгой "Bright Young Women" («Яркие молодые женщины») и Willa C. Richards с книгой "The Comfort of Monsters" («Утешение монстров»). Этих авторов интересуют преступления, но их не интересует основная история. Их тексты вносят коррективы в культурные мифы. Нолл, например, ставит под сомнение «очаровательный» рассказ Bundy и уводит внимание в сторону от самого мужчины, возвращаясь к его последним жертвам - молодым женщинам из названия книги. В книге Richards, действие которой происходит в Миннеаполисе во время “лета Дамера”, даже не упоминается имя известного убийцы. Стоит отметить, что Richards также не вдается в подробности ужасных преступлений. Вместо этого она смотрит на то, как раса, класс и пол определяют, кто достоин стать жертвой, и исследует влияние привлекающей внимание трагедии, такой как убийства Дамера, на все сообщество. Настоящая художественная работа состоит в том, чтобы заполнить поля, уменьшить масштаб и расширить наш взгляд за пределы того, что фиксируют новостные камеры.
3) вы все выдумываете сами. Когда я начинала "Rabbit Hole" («Кроличья нора»), я знала, что мне понадобится исчезновение, но я не хотела использовать в качестве основы настоящее преступление. Конечно, я, как и любой романист, заимствовала детали из реальной жизни. (Например, я на короткое время была одержима тем фактом, что Hunter Biden какое-то время встречался с вдовой своего брата, и использовала этот факт как вдохновение для описания политической семьи, лежащей в основе книги). Но меня больше интересовала машина — сама индустрия — настоящих преступлений в 21 веке, чем любое реальное исчезновение. Я имею в виду следующее: я начала подвергать сомнению свой интерес к этому жанру.
Я с раннего детства читала криминальную литературу — Кэролайн Кин, Кристофера Пайка и Стивена Кинга, — но к настоящим преступлениям я пришла, когда мне было 20 с лишним, прочитав классику нон-фикшн: «Хладнокровное убийство», «Хелтер Скелтер» и "Popular Crime" («Популярное преступление»). Они были бальзамом по сравнению с серьезной литературой, которую мне приходилось читать в колледже, в аспирантуре и работая учителем английского языка в средней школе. Эти книги были веселыми, информативными и динамичными. От книг я быстро перешла к подкастам, основанным на рекомендациях друзей, и к таким популярным материалам, как "Serial". В визуальном медиа в конце 2010-х последовал настоящий криминальный бум: "The Jinx" ("Тайны миллиардера"), "Making a Murderer" ("Создавая убийцу") и перезагрузка "Unsolved Mysteries" ("Неразгаданные тайны").
Продолжение ⬇
CrimeReads
How to Write Fiction about True Crime
If you are going to write a sensational, news-worthy crime story into your fiction, you have a few models for how to proceed. First, there is the Gone Girl model. Use a real-life crime as your insp…
Как написать художественную книгу о "настоящем" преступлении (продолжение).
Начало ⬆
Это был постепенный переход от медленно написанной, глубоко исследованной работы к блестящей, эпизодической информационно-развлекательной программе, полной говорящих голов, реконструкций, захватывающих моментов и сентиментальных саундтреков. Я принимала все, что видела, за чистую монету и болтала с друзьями об участниках этих грязных саг, как будто они были персонажами наших любимых сериалов.
Ситуация изменилась в конце 2020 года, когда на Netflix вышел документальный фильм под названием "American Murder: The Family Next Door" («Американское убийство: Семья по соседству»). Он состоял в основном из кадров из первых рук, взятых из записей, видео и текстовых сообщений Shanann Watts в социальных сетях. Это напоминало "Blair Witch Project" ("Ведьма из Блэр: Курсовая с того света") для современной эпохи. На половине, когда выяснилось, что тихий муж в центре домашних видео жестоко убил беременную Shanann вместе с двумя их маленькими дочерями, я была потрясена. По причинам, которые я до сих пор не могу назвать, в этот момент я осознала свое увлечение. Возможно, это была последняя капля, но у меня было такое чувство, будто я участвую в чем-то извращенном.
Я сделала шаг назад. Я начала задаваться вопросом, как я дошла до того, что могла выбирать между повторным просмотром "Arrested Development" («Задержка в развитии») и наблюдением за тем, как мужчина выбрасывает свою семью, как вчерашний мусор. Как бы ни возник мой интерес к настоящим преступлениям, он превратился во что-то омерзительное. Я была человеком, которая питалась недавними острыми страданиями других.
Итак, вот как я написала фальшивое настоящее преступление: я превратила себя в злодея. Преступление в центре Rabbit Hole заурядно и тонко описано: пропадает девушка, и ее не могут обнаружить в течение десяти лет. Меня, как автора, интересовало не пускание слюнок по ее подтянутому молодому телу; не воспроизведение сексуального насилия, совершенного в отношении нее; или представление ее последних минут совершенной агонии. Однако я знала, что это будут те вещи, которые будут интересны настоящим преступным сообществам. Поэтому я написала их — моих злых близнецов.
В книге их много, и они — пользователи Reddit. Они анонимны и не знают границ. Они размышляют о законах, о возрасте согласия и в печати задаются вопросом, убил ли мужчина собственную дочь. Они не относятся к людям, о которых говорят, как о реальных. Они не думают, что кто-то их слышит. Для них это просто развлечение.
Ближе к концу моих дней в качестве настоящего любителя криминала, еще до того, как «American Murder» оттолкнуло меня от этого жанра, меня начало терзать чувство фальши. Великолепная постановка, плотный монтаж, стройные сюжетные линии — они напомнили мне не о жизни, не о горе и трагедиях, которые я лично пережила, а о художественной литературе. Я начала осознавать, что из большой кучи «того, что произошло на самом деле», искусственно формируется повествование. Была ли это история конкретного преступления или это была просто хорошая история?
Когда я села писать книгу, я подумала об аккуратности: плохие парни по одну сторону линии, мертвые девушки по другую, благородный юрист (или документалист) стоит между ними. Был ли способ разрушить эти ожидания в художественной литературе? Был ли способ сделать мою художественную литературу, которая по определению была фальшивкой, более реальной, чем настоящее преступление? Могу ли я сделать это еще более запутанным и разочаровывающим? Могу ли я уловить боль незнания? Могу ли я нарисовать жертву, которая не была бы ни мучеником, ни дьяволом? Могу ли я следовать за выжившим членом семьи не в поисках оправдания и справедливости (кто из нас его получает?), а по нисходящей спирали, подпитываемой болью и самоуничтожением? Я хотела попробовать.
Как написать фальшивое настоящее преступление? Подделка — это легко. Лучший вопрос – как написать что-то правдивое?"
Начало ⬆
Это был постепенный переход от медленно написанной, глубоко исследованной работы к блестящей, эпизодической информационно-развлекательной программе, полной говорящих голов, реконструкций, захватывающих моментов и сентиментальных саундтреков. Я принимала все, что видела, за чистую монету и болтала с друзьями об участниках этих грязных саг, как будто они были персонажами наших любимых сериалов.
Ситуация изменилась в конце 2020 года, когда на Netflix вышел документальный фильм под названием "American Murder: The Family Next Door" («Американское убийство: Семья по соседству»). Он состоял в основном из кадров из первых рук, взятых из записей, видео и текстовых сообщений Shanann Watts в социальных сетях. Это напоминало "Blair Witch Project" ("Ведьма из Блэр: Курсовая с того света") для современной эпохи. На половине, когда выяснилось, что тихий муж в центре домашних видео жестоко убил беременную Shanann вместе с двумя их маленькими дочерями, я была потрясена. По причинам, которые я до сих пор не могу назвать, в этот момент я осознала свое увлечение. Возможно, это была последняя капля, но у меня было такое чувство, будто я участвую в чем-то извращенном.
Я сделала шаг назад. Я начала задаваться вопросом, как я дошла до того, что могла выбирать между повторным просмотром "Arrested Development" («Задержка в развитии») и наблюдением за тем, как мужчина выбрасывает свою семью, как вчерашний мусор. Как бы ни возник мой интерес к настоящим преступлениям, он превратился во что-то омерзительное. Я была человеком, которая питалась недавними острыми страданиями других.
Итак, вот как я написала фальшивое настоящее преступление: я превратила себя в злодея. Преступление в центре Rabbit Hole заурядно и тонко описано: пропадает девушка, и ее не могут обнаружить в течение десяти лет. Меня, как автора, интересовало не пускание слюнок по ее подтянутому молодому телу; не воспроизведение сексуального насилия, совершенного в отношении нее; или представление ее последних минут совершенной агонии. Однако я знала, что это будут те вещи, которые будут интересны настоящим преступным сообществам. Поэтому я написала их — моих злых близнецов.
В книге их много, и они — пользователи Reddit. Они анонимны и не знают границ. Они размышляют о законах, о возрасте согласия и в печати задаются вопросом, убил ли мужчина собственную дочь. Они не относятся к людям, о которых говорят, как о реальных. Они не думают, что кто-то их слышит. Для них это просто развлечение.
Ближе к концу моих дней в качестве настоящего любителя криминала, еще до того, как «American Murder» оттолкнуло меня от этого жанра, меня начало терзать чувство фальши. Великолепная постановка, плотный монтаж, стройные сюжетные линии — они напомнили мне не о жизни, не о горе и трагедиях, которые я лично пережила, а о художественной литературе. Я начала осознавать, что из большой кучи «того, что произошло на самом деле», искусственно формируется повествование. Была ли это история конкретного преступления или это была просто хорошая история?
Когда я села писать книгу, я подумала об аккуратности: плохие парни по одну сторону линии, мертвые девушки по другую, благородный юрист (или документалист) стоит между ними. Был ли способ разрушить эти ожидания в художественной литературе? Был ли способ сделать мою художественную литературу, которая по определению была фальшивкой, более реальной, чем настоящее преступление? Могу ли я сделать это еще более запутанным и разочаровывающим? Могу ли я уловить боль незнания? Могу ли я нарисовать жертву, которая не была бы ни мучеником, ни дьяволом? Могу ли я следовать за выжившим членом семьи не в поисках оправдания и справедливости (кто из нас его получает?), а по нисходящей спирали, подпитываемой болью и самоуничтожением? Я хотела попробовать.
Как написать фальшивое настоящее преступление? Подделка — это легко. Лучший вопрос – как написать что-то правдивое?"
Telegram
Интриги книги
Как написать художественную книгу о настоящем преступлении (начало).
Kate Brody - автор детектива "Rabbit Hole" ("Кроличья нора") - размышляет о том, как создать по-настоящему захватывающий криминальный роман:
"Если вы в своей художественной книге…
Kate Brody - автор детектива "Rabbit Hole" ("Кроличья нора") - размышляет о том, как создать по-настоящему захватывающий криминальный роман:
"Если вы в своей художественной книге…
Десять разных ссылок. Январь, 2024г.
Предыдущие 10 ссылок.
1. 10 лучших писателей-дебютантов 2024 года.
2. Какие книги получили бы Букеровскую премию, если бы ее вручали с 1900 года.
3. Книги, послужившие основой для фильмов-номинантов на Оскар-2024.
4. 13 книг, которые перенесут вас во Францию.
5. 10 самых смешных романов из Букеровской библиотеки.
6. Какие книги прочитал (и фильмы посмотрел) лауреат Оскара и Золотой Пальмовой Ветви Стивен Содерберг в 2023 году.
7. Джек Эдвардс - ведущий Букеровской церемонии-2023 - отобрал 14 лучших книг за 2023 год (из 200+ прочитанных).
8. 25 лучших книг о том, как полюбить себя.
9. 17 лучших эротических романов за все времена.
10. 25 книг чернокожих авторов - обязательная к прочтению классика.
Предыдущие 10 ссылок.
1. 10 лучших писателей-дебютантов 2024 года.
2. Какие книги получили бы Букеровскую премию, если бы ее вручали с 1900 года.
3. Книги, послужившие основой для фильмов-номинантов на Оскар-2024.
4. 13 книг, которые перенесут вас во Францию.
5. 10 самых смешных романов из Букеровской библиотеки.
6. Какие книги прочитал (и фильмы посмотрел) лауреат Оскара и Золотой Пальмовой Ветви Стивен Содерберг в 2023 году.
7. Джек Эдвардс - ведущий Букеровской церемонии-2023 - отобрал 14 лучших книг за 2023 год (из 200+ прочитанных).
8. 25 лучших книг о том, как полюбить себя.
9. 17 лучших эротических романов за все времена.
10. 25 книг чернокожих авторов - обязательная к прочтению классика.
Telegram
Интриги книги
Десять разных ссылок. Итоги 2023 г.
Предыдущие 10 ссылок.
1. Бизнес-лидеры отобрали 58 лучших книг 2023 г.
2. Обозреватели журнала "Foreign Affairs" о лучших книгах 2023 г.
3. Лучшие научные книги-2023.
4. Самые популярные книги в публичных библиотеках…
Предыдущие 10 ссылок.
1. Бизнес-лидеры отобрали 58 лучших книг 2023 г.
2. Обозреватели журнала "Foreign Affairs" о лучших книгах 2023 г.
3. Лучшие научные книги-2023.
4. Самые популярные книги в публичных библиотеках…