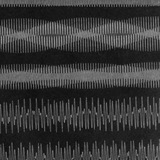как будто последние волны
здесь озеро давит из вод
я жил тут все лето безвылазно зол на
лета исход
на ягодный бунт краснопёрый
и сырости запах грибной
на приторный привкус историй который
собрался за мной
бесхозная эта долина
нечищенный издавна лес
куда я прожив промотав половину
со страха залез
я знаю мне только по силам
старанием множить ущерб
по хлеву разбросанный силос по хлебу
тоскующий серп
тут русского Фроста наденешь
упрямые впадины щёк
я дачник я страшного датчик нигде не
привитый дичок
здесь озеро давит из вод
я жил тут все лето безвылазно зол на
лета исход
на ягодный бунт краснопёрый
и сырости запах грибной
на приторный привкус историй который
собрался за мной
бесхозная эта долина
нечищенный издавна лес
куда я прожив промотав половину
со страха залез
я знаю мне только по силам
старанием множить ущерб
по хлеву разбросанный силос по хлебу
тоскующий серп
тут русского Фроста наденешь
упрямые впадины щёк
я дачник я страшного датчик нигде не
привитый дичок
Вижуалвайбрэйшнс
как будто последние волны здесь озеро давит из вод я жил тут все лето безвылазно зол на лета исход на ягодный бунт краснопёрый и сырости запах грибной на приторный привкус историй который собрался за мной бесхозная эта долина нечищенный издавна лес куда…
Дорога выходит из леса,
и снова во весь разворот:
еврейский погром разновесов,
разнузданный теннисный корт.
И снова двоичная смута
у входа встает на ребро.
Невидимой астмой раздуто
бетонное горло метро.
Бессмысленней жаберной щели,
страшней, чем в иконе оклад,
они безобразней гантели,
и гуще ширенги солдат.
Налево пойдешь - как нагайка,
огреет сквозняк новостей.
Направо - опять контргайка
срезает резьбу до костей.
Я вычерпал душу до глины,
до черных астральных пружин,
чтоб вычислить две половины
и выйти один на один
с таким оголтелым китайцем,
что, сколько уже ни крути,-
не вычерпать, как ни пытайся,
блестящую стрелку в груди.
Не выправить пьяного жеста,
включенного, как метроном.
не сдвинуться с этого места.
Чтоб мне провалиться на нем.
и снова во весь разворот:
еврейский погром разновесов,
разнузданный теннисный корт.
И снова двоичная смута
у входа встает на ребро.
Невидимой астмой раздуто
бетонное горло метро.
Бессмысленней жаберной щели,
страшней, чем в иконе оклад,
они безобразней гантели,
и гуще ширенги солдат.
Налево пойдешь - как нагайка,
огреет сквозняк новостей.
Направо - опять контргайка
срезает резьбу до костей.
Я вычерпал душу до глины,
до черных астральных пружин,
чтоб вычислить две половины
и выйти один на один
с таким оголтелым китайцем,
что, сколько уже ни крути,-
не вычерпать, как ни пытайся,
блестящую стрелку в груди.
Не выправить пьяного жеста,
включенного, как метроном.
не сдвинуться с этого места.
Чтоб мне провалиться на нем.
Forwarded from charon
Но вышел один на дорогу
в забытом селении, где
душа поднимается к богу
и прячется в талой воде
в забытом селении, где
душа поднимается к богу
и прячется в талой воде
Forwarded from charon
Я был в деревне,
от тебя вдали.
Я слушал тихое
брожение земли.
И отражали птиц и облака
глаза Никоры —
пегого быка.
Я видел, как алеют небеса,
как умирает
мелкая роса...
Пойди туда!
Неверье затаив,
спроси, чем жил,
у честных старых ив,
о ком скучал,
о ком я думал тут...
Все ивы
твоё имя назовут.
от тебя вдали.
Я слушал тихое
брожение земли.
И отражали птиц и облака
глаза Никоры —
пегого быка.
Я видел, как алеют небеса,
как умирает
мелкая роса...
Пойди туда!
Неверье затаив,
спроси, чем жил,
у честных старых ив,
о ком скучал,
о ком я думал тут...
Все ивы
твоё имя назовут.
В десять начинается будильник
В девятнадцать будет кавээн
Трупы покидают холодильник
Фирменной походкой Boney m.
В девятнадцать будет кавээн
Трупы покидают холодильник
Фирменной походкой Boney m.
Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос.
Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег.
И это не комната, где мы сидим, но полюс;
плюс наши следы ведут от него, а не к.
Когда-то я знал на память все краски спектра.
Теперь различаю лишь белый, врача смутив.
Но даже если песенка вправду спета,
от нее остается еще мотив.
Я рад бы лечь рядом с тобою, но это – роскошь.
Если я лягу, то – с дерном заподлицо.
И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках
и сварит всмятку себе яйцо.
Раньше, пятно посадив, я мог посыпать щелочь.
Это всегда помогало, как тальк прыщу.
Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь.
Ты носишь светлые платья. И я грущу.
Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег.
И это не комната, где мы сидим, но полюс;
плюс наши следы ведут от него, а не к.
Когда-то я знал на память все краски спектра.
Теперь различаю лишь белый, врача смутив.
Но даже если песенка вправду спета,
от нее остается еще мотив.
Я рад бы лечь рядом с тобою, но это – роскошь.
Если я лягу, то – с дерном заподлицо.
И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках
и сварит всмятку себе яйцо.
Раньше, пятно посадив, я мог посыпать щелочь.
Это всегда помогало, как тальк прыщу.
Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь.
Ты носишь светлые платья. И я грущу.
Я рад, что на свете есть расстояния более немыслимые, чем между тобой и мной.